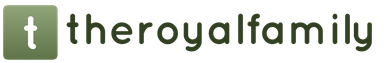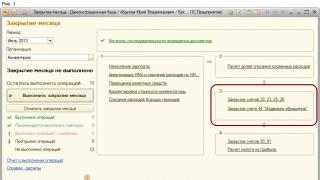Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Шрифт:
100% +
Оноре де Бальзак
Гобсек
Барону Баршу де Пеноэн
Из всех бывших питомцев Вандомского колледжа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще, – недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами De viris.1
De viris illustribus (лат.) («О знаменитых мужах») – сочинение римского историка Корнелия Непота (I в. до н. э.).Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.
Твой старый школьный товарищ
де Бальзак
Как-то раз зимою 1829/1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета, что подтвердило опасения матери.
– Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения – в девичестве ее фамилия была Горио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но, – добавила виконтесса с лукавым видом, – пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.
– Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! – воскликнул вышеупомянутый друг семьи. – Я выиграл, граф, – сказал он, обращаясь к партнеру. – Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.
– Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! – воскликнула виконтесса. – Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.
– Я все понял по вашим глазам, – ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.
Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а госпожа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.
– Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.
– Историю?! – воскликнула Камилла, – Скорей рассказывайте, господин Дервиль.
Стряпчий бросил на госпожу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее салоне запросто, но объяснить это очень легко. Госпожа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм цивильного листа, – положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние госпожи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении госпожи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома госпожи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы госпожи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть, в нем не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона госпожи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе д"Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:
– Жаль, что у этого юноши нет двух-трех миллионов! Правда?
– Почему жаль? Я не считаю это несчастьем, – ответила она. – Господин де Ресто – человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.
– Да, но вот если б он уже сейчас был богат!
– Если б он был богат?.. – краснея, повторила Камилла. – Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга, – добавила она, указывая на участниц кадрили.
– И тогда, – заметил стряпчий, – мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели, почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите…
Камилла вспорхнула с кресла.
«Она влюблена в него», – подумал Дервиль.
С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность – это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.
Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:
– Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни… Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, – речь идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью – пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью, – совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала также бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди – человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок веселости, – право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу – совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое, по причине безденежья, во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.
– Это не моя! – воскликнул он, замахав рукой. – Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!
По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная – Гобсек.2
Живоглот (фр.).
Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в 1740 году, в предместье Антверпена; мать у него была еврейка, отец – голландец, полное его имя было Жан-Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной «Прекрасная Голландка». Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:
– Это моя внучатая племянница.
Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил Гобсека объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь:
– В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.
Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попранной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал господина де Лалли, адмирала Симеза, господина де Кергаруэта и д"Эстена, байи де Сюфрена, господина де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба. С ним вел дела тот савояр, что служил в Дели радже Махаджи-Синдиаху и был пособником могущества династии Махараттов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом и другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он все перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям войны за независимость Соединенных Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей «болтливости». Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к разряду бесполых. Остался ли он верен религии своей матери и смотрел ли на христиан как на добычу? Стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином? Я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванному его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек». Он, по обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул.
«О чем думает это существо? – спрашивал я себя. – Знает ли он, что есть в мире Бог, чувства, любовь, счастье?»
И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяжко болен. Однако я прекрасно понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.
– Здравствуйте, папаша Гобсек, – сказал я.
Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись, – это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.
– Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.
– Жертвой? – удивленно переспросил он.
– А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению.
– Да, он хитер был, – подтвердил старик. – Но я его потом опять прищемил.
– Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число.
Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями, а затем пискливым тихим голоском, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес:
– Я развлекаюсь.
– Так вы иногда и развлекаетесь?
– А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? – спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись.
«Поэзия? В такой голове?» – удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.
– А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? – сказал он, и взгляд его загорелся, – Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит возраст, когда вся жизнь-только привычка к излюбленной среде. И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих двух правил, все остальные фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно обстоятельствам, приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения – пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним, Это… золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить – это значения не имеет. А что касается нравов – человек везде одинаков: везде идет борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы; переживает все наслаждения только одна утеха – тщеславие. Тщеславие! Это всегда наше «я». А что может удовлетворить тщеславие? Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности или усилия. Ну что ж! В золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности.
Одни только безумцы да больные люди могут находить свое счастье в том, чтобы убивать все вечера за картами в надежде выиграть несколько су. Только дураки могут тратить время на размышления о самых обыденных делах-возляжет ли такая-то дама на диван одна или в приятном обществе и чего у ней больше: крови или лимфы, темперамента или добродетели? Только простофили могут воображать, что они приносят пользу ближнему, занимаясь установлением принципов политики, чтобы управлять событиями, которых никогда нельзя предвидеть. Только олухам может быть приятно болтать об актерах и повторять их остроты, каждый день кружиться на прогулках, как звери в клетках, разве лишь на пространстве чуть побольше; рядиться ради других, задавать пиры ради других, похваляться чистокровной лошадью или новомодной коляской, которую посчастливилось купить на целых три дня раньше, чем соседу. Вот вам вся жизнь ваших парижан, вся она укладывается в эти несколько фраз. Верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чем счастье? Это или сильные волнения, подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают ее в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая «благородная» любознательность, стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя ее явления. Вот вам в двух словах искусство и наука, страсть и спокойствие. Верно? Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти.
Да вот послушайте, – заговорил он, помолчав, – я расскажу вам две истории, случившиеся сегодня утром на моих глазах, и вы поймете, в чем мои утехи.
Он поднялся, заложил дверь засовом, подошел к окну, задернул старый ковровый занавес, кольца которого взвизгнули, скользнув по металлическому пруту, и снова сел в кресло.
– Нынче утром, – сказал он, – мне надо было предъявить должникам два векселя – остальные я еще вчера пустил в ход при расчетах по своим операциям. И то барыш! Ведь при учете я сбрасываю с платежной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по сорок су на извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не забавно, что из-за каких-нибудь шести франков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налога всего семь франков. Первый вексель, на тысячу франков, учел у меня молодой человек, писаный красавец и щеголь: у него жилетка с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь, и тому подобное. А выдан был вексель женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок графа. Почему же ее сиятельство графиня подписала вексель, юридически недействительный, но практически вполне надежный? Ведь эти жалкие женщины, светские дамы, до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотел ось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается: глупость, опрометчивость, любовь или сострадание? Второй вексель на такую же сумму, подписанный некоей Фанни Мальво, учел у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него еще есть хоть самый малый кредит в банке, не придет в мою лавочку: первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора заимодавцев. Графиня живет на Гельдерской улице, а Фанни Мальво – на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому! Если у этих двух женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковей, чем отца родного. Уж как графиня начнет фокусничать, какую будет комедию ломать из-за тысячи франков! Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым, нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чье имя выдан вексель, пожалуй, будет даже умолять меня! А я…
Старик бросил на меня холодный взгляд. – А я непоколебим! – сказал он.
– Я появляюсь как возмездие, как укор совести… Ну, оставим мои догадки. Прихожу.
«Графиня еще не вставала», – заявляет мне горничная.
«Когда ее можно видеть?»
«Не раньше двенадцати».
«Что же, графиня больна?»
«Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра».
«Моя фамилия Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду в полдень».
И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей – не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом, отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор – настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В каморке привратницы темно, стекло в огне грязное, как измызганный, засаленный рукав теплого халата, да еще все в трещинах.
«Здесь живет мадемуазель Фанни Мальво?»
«Живет, только ее сейчас нет дома. Но если вы насчет векселя, то она оставила для вас деньги».
«Я зайду попозже», – сказал я.
Деньги оставлены у привратницы – прекрасно, но мне любопытно посмотреть на самое должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот. Утро я провел на бульваре, рассматривал гравюры в окнах магазинов. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной, смежной со спальней графини.
«Барыня только что позвонила, – заявила мне горничная. – Не думаю, чтобы она сейчас приняла вас».
«Я подожду», – ответил я и уселся в кресло.
Открываются жалюзи, прибегает горничная.
«Пожалуйте, сударь».
По сладкому голоску горничной я понял, что хозяйке заплатить нечем, зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покровом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем, – значит, не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого белья. Голова ее была небрежно повязана, как у креолки, пестрым шелковым платком, а из-под него выбивались крупные черные локоны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. Художник дорого бы дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро. Складки занавесей у кровати дышали сладострастной негой, сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивший воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых туфелек, небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвились прозрачные чулки, которые унесло бы дуновение ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блестки полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались не задвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всем была красота, лишенная гармонии, роскошь и беспорядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или ее возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казала им свои острые зубы. Утомленное лицо графини было под стать всей ее опочивальне, усеянной приметами минувшего празднества.
Разбросанные повсюду безделушки вызвали во мне чувство жалости: еще вчера все они были ее убором и кто-то восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовы усилия поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи, но лицо ее как будто припухло, темные тени под глазами, казалось, обозначились резче обычного. И все же природная энергия била в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили ее красоты. Глаза ее сверкали, она была великолепна: она напоминала одну из прекрасных Иродиад кисти Леонардо да Винчи (я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров), от нее веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях ее стана, ни в ее чертах: она, несомненно, должна была внушать любовь, но сама, казалось, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно мое сердце так не билось. А значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости.
«Сударь, – сказала она, предложив мне сесть, – не будете ли вы так любезны немного отсрочить платеж?»
«До полудня следующего дня, графиня, – сказал я, складывая вексель, который предъявил ей. – До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель».
А мысленно я говорил ей: «Плати за всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за свое счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину, к которой, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются, глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку и шелком укрываются, существует кое-что иное: укоры совести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце».
«Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? – воскликнула она, вперив в меня взгляд. – Неужели вы так мало уважаете меня?»
«Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд еще скорее, чем на всякого другого должника».
В эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.
«Меня нет дома!» – властно крикнула графиня.
«Анастази, это я, Мне нужно поговорить с вами».
«Попозже, дорогой», – ответила она уже менее резким тоном, но все же отнюдь не ласково.
Французская литература
Виктор Ерёмин
Гобсек
«— Хе-хе! — проскрипел Гобсек, и возглас этот напоминал скрип медного подсвечника, передвинутого по мраморной доске»*.
_____________________
* Здесь и деле роман цитируется по книге: Оноре Бальзак. Гобсек. Евгения Гранде. Отец Горио. М.: Правда, 1979.
Кому-то, быть может, слова эти покажутся очередной любопытной деталью характера жестокого ростовщика, но не таков колоссальный гений Бальзака, чтобы любая деталь в его главных произведениях становилась всего лишь чёрточкой обыденности, а не принимала бы на себя смысл вселенского символа. И в данном случае гобсековское «хе-хе» — не стариковский радостный смешок, но тот самый протяжный грохот торжества всемирного капитала, который тешится копошащейся у его стоп серой человеческой массой, жаждущей хотя бы краешком судьбы прикоснуться к его безраздельному могуществу и за эту вожделенную химеру готовую накачивать его бездонную утробу всё новыми и новыми жертвами тщетных надежд.
Бальзака нередко называют величайшим из величайших романистов Франции. По философской наполненности сюжетов, по числу и разнообразию характеров, запечатленных пером великого писателя, по мощи проникновения в глубины человеческого бытия это бесспорно так — величайший из величайших…

Оноре де Бальзак
Оноре Бальзак родился 20 мая 1799 г.* во французском городе Туре**. Семья его происходила из крестьян, но отец его смог выбиться в провинциальные чиновники. Дед Оноре был безграмотным землепашцем по прозванию Вальса. Отец будущего писателя получил образование, стал судейским чиновником и переделал свою фамилию в Бальзак. Оноре же пошёл ещё дальше — воспользовавшись послереволюционной неразберихой, он добавил к фамилии дворянское де и стал именоваться Оноре де Бальзак.
_____________________
* Часто отмечают любопытную деталь — Бальзак родился всего на три недели раньше А.С. Пушкина.
** Тур — ныне главный город департамента Эндр-и-Луара.
Мальчик оказался нелюбимым сыном в доме. От него постарались поскорее избавиться: Оноре не было ещё и девяти лет, когда его отправили в Вандомский коллеж. Располагался он в угрюмом замке, окружённом крепостным рвом с водой. Шесть лет провёл Оноре в этом месте, и за всё время родители ни разу, даже на каникулы, не взяли мальчика домой. Утешением от заброшенности стали для него книги: Бальзак самозабвенно погрузился в чтение, а с двенадцати лет увлёкся сочинительством, и товарищи по коллежу сразу признали в Оноре писателя. Происходило это в самый разгар наполеоновских войн и оккупации Франции войсками союзников.
На шестнадцатом году жизни Бальзак серьёзно заболел, и родители были вынуждены забрать его домой. Образование юноша завершил в Париже, куда вскоре после окончательного разгрома Наполеона под Ватерлоо переехала вся семья Бальзаков.
Уже тогда Оноре был уверен в своей писательской стезе, однако отец заставил юношу изучать право. Ни адвокат, ни нотариус из Бальзака не получился, но судейские конторы, в которых ему довелось потолкаться в годы учёбы, дали писателю многих героев его будущих произведений.
Пришло время, и Оноре твёрдо заявил отцу, что выбрал карьеру литератора. Франсуа Бернар Бальзак, скрепя сердце, вынужден был согласиться на то, чтобы в течение двух лет содержать сына, предоставив ему возможность испытать силы на писательском поприще.
В 1819 г. семья переехала на жительство в Вильпаризи, а Оноре остался в столице и с головой ушёл в сочинительство. Первой из-под его пера вышла провальная историческая трагедия «Кромвель». Она была завершена в 1821 г., после чего отец отказал сыну в содержании.
Чтобы выжить, Бальзак бросился в писание бульварных авантюрных романов, которые издавались и приносили ему минимальные средства. Впоследствии автор отрёкся от этих своих вульгарных экзерсисов.
Попытки Бальзака заработать большие деньги сразу, посредством предпринимательства, с треском провалились и только ввергли его в пучину тяжелейших долгов. Казалось, сама судьба направляла писателя по единственному предопределённому ему пути.
Из-под пера Бальзака выходило одно произведение за другим, а писатель всё ещё не понимал, чему посвящён его труд, и мечтал только о славе. Но со временем количество перешло в качество. По воспоминаниям сестры Бальзака Лоры Сюрвиль* случилось это в 1833 г. Однажды Бальзак воскликнул:
_________________________
* Лора Сюрвиль (1800—1871) — всю жизнь она оставалась самым близким другом писателя.
— Поздравьте меня, я на верном пути к тому, чтобы стать гением!*.
_____________________
* Андре Моруа. Прометей, или Жизнь Бальзака. Собр. соч. в 5-ти томах. Т. 4. М.: АСТ, Астрель, Олимп, 1999.
Писатель решил создать из всех своих романов единое огромное произведение — энциклопедию человеческих характеров, которая получила название «Человеческая комедия». В одном из писем 1834 г. Бальзак разъяснил: «Моё произведение должно вобрать в себя все типы людей, все общественные положения, оно должно воплотить все социальные сдвиги так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо, ни один характер, мужской или женский, ни один образ жизни, ни одна профессия, ни чьи-либо взгляды, ни одна французская провинция, ни что бы то ни было из детства, старости, зрелого возраста, из политики, права или военных дел не оказалось забытым»*.
_______________________
* Там же.
Крупнейшим бриллиантом в собрании бальзаковских шедевров стал уже созданный к тому времени роман «Гобсек»*.
___________________
* Роман «Гобсек» был написан О. де Бальзаком в 1830 г. Имя Гобсек переводится с французского как «питающийся всухомятку».
В отечественной критике ростовщика Гобсека нередко пытаются сопоставлять с пушкинским Скупым рыцарем из «Маленьких трагедий»* или с гоголевским Плюшкиным из «Мёртвых душ». Сравнение такое, бесспорно, неправомерно в силу принципиального различия персонажей. Гобсека нельзя рассматривать как просто накопителя, болезненно жадного человека. Сравнив по ходу повествования своего героя с Талейраном** и Вольтером***, Бальзак фактически возвёл его в ранг идеолога современного нам общества, основы которого как раз и закладывались в XVIII — начале XIX вв.
_____________________
* «Скупой рыцарь» был написан в один год с «Гобсеком».
** Шарль Морис Талейран-Перигор (1754—1838) — великий французский дипломат; мастер тонкой дипломатической интриги; беспринципный политик; часто именно его называют отцом современной мировой школы дипломатии.
*** Подробнее о Вольтере см. в Главе 74. «Сочинитель» этой книги; философ является одним из основоположников идеологии современной мировой демократии.
Бальзак не раз подчёркивает, что Гобсек — философ от золота, который наслаждается не самим фактом наличия у него золота, а возможностью, благодаря обладанию богатством, наблюдать со стороны за теми процессами, которые происходят в обществе и людских душах по причине нехватки денег, и ещё больше — возможностью ради собственного развлечения управлять этими процессами с помощью золота. Именно по этой причине Гобсек присвоил себе право высшего судии и сказал о себе:
«— Я появляюсь как возмездие, как укор совести!».
Устами мудрого ростовщика писатель сформулировал основные принципы существования современного нам пресловутого «цивилизованного» мира. Процитируем важнейший в романе монолог Гобсека.
«Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения — пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом… из всех земных благ есть только одно, достаточно надёжное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это… золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить — это значения не имеет. А что касается нравов — человек везде одинаков: везде идёт борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые руки трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы; переживает все наслаждения только одна утеха — тщеславие. Тщеславие! Это всегда наше “я”. А что может удовлетворить тщеславие? Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности и усилия. Ну что ж! В золоте всё содержится в зародыше, и всё оно даёт в действительности».
Именно золото, по утверждению Гобсека, «заставляет знатных господ (сегодня читай: власть имущих. — В.Е.) пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто силится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь».
Согласитесь, этот мудрейший «философ из школы циников» не может встать в один ряд с обыкновенными накопителями. Он слишком велик, слишком грандиозен в своём понимании главных человеческих пороков, чтобы оказаться посредственным стяжателем. Нет! Именно его в романе автор парадоксально определил как человека «самой щепетильной честности во всем Париже»!
В своё время Карл Маркс и Фридрих Энгельс предприняли попытку разработать практическую теорию*, которая позволила бы человечеству выйти из гобсековской ловушки, но, как мы видим на примере гибели Советского Союза, потерпели в этом существенное, если не смертельное поражение. К слову сказать, Фридрих Энгельс незадолго до своей кончины предвидел подобное развитие событий и писал, что ахиллесовой пятой марксизма является слабая разработка теории личностной психологии человека, которой им с Марксом некогда было заниматься, и высказывал надежду, что этой важнейшей проблемой займутся их преемники. Не занялись, и мы стали свидетелями торжества безграничного жлобства, воспетого Гобсеком, над данными свыше, но материально не подкрепленными нравственными идеалами. Более того, сегодня жлобы с помощью награбленного золота наняли торгашескую интеллигенцию, чтобы теоретически обосновать своё право на массовый грабеж народа России. Бессмысленная трата денег! Ведь это уже давным-давно сделал мудрый Гобсек. Он, по крайней мере, имел на это право…
_____________________
* В данном случае марксизм рассматривается как теория, разработанная совестливыми людьми, а не как подрывное учение, заказанное Ротшильдами. Хотя объективные исследования последних лет всё более склоняют к признанию верной ротшильдовской версии.
Роман «Гобсек», невзирая на всю его жизненность, был встречен читателями весьма сдержанно. Отношение к нему не изменилось по сей день. Невзирая на зрелищность, эмоциональную насыщенность и философскую глубину романа, не приходится говорить ни о музыке, ни о живописи, посвящённой этому произведению, хотя, казалось бы, благодатнее тему и не найти.
Кинематограф почти не обращается к великому роману Бальзака. Помимо советских экранизаций можно упомянуть только чешскую постановку 1985 г.
В СССР «Гобсек» впервые был поставлен режиссёром К.В. Эггертом* в 1937 г. Главную роль исполнил Л.М. Леонидов**.
_____________________
* Константин Владимирович Эггерт (1883—1955) — российский и советский драматический актёр и режиссёр. Как актёр работал в Московском художественном театре, Камерном и Малом театрах. С 1924 г. снимался в кинофильмах, а с 1928 г. сам стал режиссёром. Фильм «Гобсек» снимался в 1936 г., а вышел на экраны в 1937 г., в связи с чем возникла некоторая путаница в источниках с указанием года его создания.
** Леонид Миронович Леонидов (настоящая фамилия — Вольфензон) (1873—1941) — русский советский актёр, режиссёр и педагог; народный артист СССР; доктор искусствоведения. С 1903 г. до смерти актер МХТ—МХАТ.
В 1987 г. в СССР вышел совместный советско-французский фильм «Гобсек», снятый на киностудии «Молдова-филм». Режиссёр А.С. Орлов*, роль Гобсека исполнил актёр В.М. Татосов**.
__________________________
* Александр Сергеевич Орлов (р. 1940) — отечественный режиссёр, сценарист, актёр. Наиболее известные из снятых Орловым фильмов — «Женщина, которая поёт», «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» и «Похождения Чичикова».
** Владимир Михайлович Татосов (р. 1926) — советский актёр; творческая судьба Татосова связана с крупнейшими ленинградскими театрами. В кино дебютировал в 1954 г. в фильме «Большая семья», зрителям актёр более всего запомнился по ярким образам, созданным в телесериалах «Соломенная шляпка» и «Крах инженера Гарина».
Относится к сценам частной жизни (через частную историю пытается проникнуть и проанализировать историю).
Повесть «Гобсек» под названием «Опасности беспутства» была опубликована в 1830 г. в составе «Сцен частной жизни», первая ее глава была напечатана отдельно в начале 1830 г. под названием «Ростовщик»; как «Папаша Гобсек», эта повесть в 1835 г. вошла в состав «Сцен парижской жизни», свое окончательное название «Гобсек» и место в «Сценах частной жизни» она получила в 1842 г. Столь долгая история публикации и «переходы» повести из одного раздела в другой свидетельствуют о сложности проблематики произведения и о значительности его в системе всей серии романов Бальзака. Главная фигура повести - ростовщик Гобсек, его фамилия в переводе с голландского означает «живоглот», что вполне соответствует жизненной функции персонажа; Бальзак обыгрывает внутреннюю форму фамилии - его герой действительно, как удав, душит свои жертвы чудовищными процентами и проглатывает их и их состояния. В соответствии со своим принципом изображать «мужчин, женщин и вещи» писатель дает подробный, характеризующий портрет героя, давая сравнения с вещами, раскрывающими авторское осмысление фактов. Гобсек обладал «лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминает цвет серебра, с которого слезла позолота»: в его внешнем облике отмечены цвета денег - золота и серебра. Бесстрастность ростовщика отражена в его неподвижных чертах, они казались отлитыми из бронзы. Глаза у него были «маленькие, желтые, словно у хорька». Длинный его нос был похож на буравчик - герой с его помощью словно проникал во все скрытые от других тайны. «Возраст его был загадкой». Зловещий облик Гобсека повторен в его предметном окружении: он живет «в сыром и мрачном доме». В егоконторе обычно стоит такая мертвая тишина. В своем исследовании мира Гобсек исходит из того, что все определяется деньгами. В мире он видит постоянную борьбу богатых и бедных и предпочитает «сам давить», а не «позволять, чтобы другие тебя давили». Бальзак показывает, что ростовщики, как пауки, оплетают своей паутиной все общество, но писатель не упускает из вида и то, что само это общество не лучше ростовщиков. Кто попадает в сети Гобсека? Максим де Трай - мужчина- проститутка, светский проходимец, зарабатывающий деньги, торгуя своей так называемой «любовью». Графиня де Ресто, обманываемая де Траем, но обманывающая в свою очередь мужа и разорившая и покинувшая своего отца. В борьбе всех против всех Гобсек принципиально отрицает чувства, ибо видит, что они становятся ловушкой, в которую попадаются наивные и простодушные. Отношения людей он оценивает только деньгами. Зловещий характер Гобсека автор подчеркивает кратким экскурсом в его прошлое, где лишь отдельными штрихами дается путь к богатству: почти романтическая тайна, окутывающая происхождение его богатства, связана с преступлениями. Однако в настоящем он лишен романтики. я Бальзака важно, что его герой не только частное лицо - он столп современного государства, в его помощи нуждается правительство. И вместе с тем автор видит, что это гнилой столп. Об этом свидетельствует картина смерти ростовщика, когда остаются никому ненужными все накопленные им богатства, когда в его чуланах гниют всевозможные припасы. Боясь продешевить, он обрекал свои сокровища на гибель. Перед нами возникает колоссальная картина разрушения личности под влиянием денег, когда и сама денежная стоимость вещей утрачивает всякий смысл.
Чтобы расширить область наблюдений, автор прибегает к своеобразной композиции: «Гобсек» - это рассказ в рассказе. «Рамкой» для истории ростовщика стала беседа в салоне де Гранлье о женихе Камиллы де Гранлье - старшем сыне графа де Ресто, который вызывает недоверие, ибо его мать запятнала себя бесчестием. Но вопрос, о нравственности отпадает, когда у человека с сомнительной репутацией оказываются большие деньги.
Гобсек - это тот случай, в котором раскрываются закономерности общественной жизни.
Оноре де Бальзака называют королем романистов. Ему удалось поднять жанр романа до художественного совершенства и придать ему социальную значимость. Но и более короткие его произведения достойны всяческой похвалы. Повесть «Гобсек» - лучший тому пример.
«Гобсек»
Повесть была написана в январе 1830 года и вошла в цикл произведений «Человеческая комедия». Главными персонажами в ней стали ростовщик Гобсек, семейство графа Ресто и стряпчий Дервиль. Основной темой повести стала страсть. С одной стороны, главный герой изучает человеческие страсти - к богатству, женщинам, власти, с другой - сам автор показывает, что даже умудренного жизнью человека может погубить всепоглощающая страсть к золоту и обогащению. Историю этого человека можно узнать из повести Бальзака «Гобсек». Краткое содержание читайте в этой статье.
В салоне виконтессы
О Гобсеке рассказал стряпчий Дервиль в салоне виконтессы. Как-то раз засиделись у нее допоздна молодой граф Ресто и он, которого принимали лишь потому, что он помог ей вернуть конфискованное во время революции имущество. Когда граф уходит, она выговаривает своей дочери, что не следует слишком откровенно выказывать графу свое расположение, потому как никто не станет родниться с графом из-за матери.
Конечно, сейчас за ней ничего предосудительного не замечалось, но во времена молодости сия особа вела себя очень неосмотрительно. Отцом ее был хлеботорговец, но хуже всего то, что все свое состояние она промотала на любовника и оставила без денег своих детей. Граф очень беден и не пара Камилле. Дервиль, сочувствуя влюбленным, вмешался в разговор и объяснил виконтессе, как все обстояло на самом деле. С рассказа Дервиля и начнем изложение краткого содержания «Гобсека» Оноре Бальзака.
Знакомство с Гобсеком
В студенческие годы пришлось ему жить в пансионе, где он и познакомился с Гобсеком. Старик этот был очень примечательной внешности: желтые, как у хорька, глаза, длинный острый нос и тонкие губы. Жертвы его угрожали и плакали, но ростовщик сохранял хладнокровие – «золотой истукан». С соседями не общался, отношения поддерживал только с Дервилем, и раскрыл ему как-то тайну власти над людьми - рассказал, как взыскивал долг с одной дамы.

Графиня Ресто
Пересказ краткого содержания «Гобсека» Оноре де Бальзака продолжим повествованием ростовщика об этой графине. Деньги ссудил у ростовщика ее любовник, и она, страшась разоблачения, вручила ростовщику бриллиант. Посмотрев на молодого белокурого красавца, будущее графини можно было запросто предугадать – такой щеголь мог разорить не одну семью.
Дервиль окончил курс права и получил в конторе стряпчего должность клерка. Чтобы выкупить патент, ему необходимы сто пятьдесят тысяч франков. Гобсек ссудил ему под тринадцать процентов денег, и ценой упорной работы с ростовщиком Дервилю удалось рассчитаться за пять лет.

Обманутый муж
Продолжим рассматривать краткое содержание «Гобсека». Как-то граф Максим попросил Дервиля познакомить его с Гобсеком. Но старый ростовщик отказался дать ему ссуду, потому как человек, имевший триста тысяч долгов, не внушал ему доверия. Максим через некоторое время вернулся с красивой дамой, и стряпчий сразу узнал ту самую графиню. Дама собиралась отдать ростовщику великолепные бриллианты, и стряпчий пытался этому воспрепятствовать, но Максим намекнул, что сведет счеты с жизнью. Графиня дала согласие на кабальные условия.
Краткое содержание «Гобсека» продолжим историей о том, как после их ухода к Гобсеку ворвался с требованием вернуть заклад муж графини, объяснив, что у его супруги нет права распоряжаться старинными фамильными драгоценностями. Ростовщик посоветовал графу путем фиктивной продажи переписать все свое состояние на надежного человека. Так он мог спасти от разорения своих детей.
Через какое-то время граф пришел к стряпчему узнать о Гобсеке. На что тот ему ответил, что доверил бы такому человеку, как ростовщик, даже своих детей. Граф немедленно переписал на Гобсека свое имущество, желая уберечь его от супруги и ее молодого любовника.

Болезнь графа
О чем дальше нам расскажет краткое содержание «Гобсека»? Виконтесса, воспользовавшись паузой, отослала дочь спать, ибо незачем молодой девушке слушать, до какого распутства доходит женщина, преступившая известные нормы. Камилла ушла, и Дервиль сразу же сказал, что разговор идет о графине де Ресто.
Вскоре Дервиль узнал, что сам граф тяжело болен, и супруга не пускает к нему стряпчего для оформления сделки. В конце 1824 года графиня сама убедилась в подлости Трая и порвала с ним. Она столь ревностно ухаживала за больным мужем, что многие готовы были простить ей ее недостойное поведение. На самом же деле графиня просто подстерегала свою добычу.
Граф, не добившись встречи со стряпчим, хочет отдать документы сыну, но графиня всячески препятствует этому. В последние часы мужа она на коленях вымаливает прощение, но граф остался непреклонен – бумаги он ей не отдал.

Смерть ростовщика
Краткое содержание «Гобсека» продолжается рассказом о том, как на следующий день в дом графа пришли Гобсек и Дервиль. Их глазам открылось ужасающее зрелище: графиня, не стыдясь того, что в доме находится покойник, учинила настоящий погром. Заслышав их шаги, она сожгла документы, адресованные Дервилю, и тем самым предопределила судьбу всего имущества: оно перешло во владение Гобсека.
Ростовщик оставил особняк и по-барски стал проводить время в новых владениях. На просьбы Дервиля сжалиться над графиней и детьми он неизменно отвечал: «Несчастье – лучший учитель».
Когда сын Ресто узнает цену деньгам, тогда он и вернет имущество. Дервиль, услышав о любви молодого графа и Камиллы, отправился к старику и застал его при смерти. Все свое имущество тот завещал родственнице – публичной девке.
В изложении краткого содержания «Гобсека» нужно отметить, что старый ростовщик не забыл и о Дервиле - поручил распорядиться припасами. Увидев сгнившие и протухшие продукты, стряпчий убедился, что скупость Гобсека превратилась в манию. Оттого он ничего не продавал, что боялся продешевить.
Так что виконтессе не о чем беспокоиться: молодой Ресто вернет свое состояние. На что виконтесса отвечала, что Камилле вовсе не обязательно встречаться со своей будущей свекровью.

Трагедия Гобсека
В центре повести Оноре де Бальзака «Гобсек», краткое содержание которой изложено выше, – человек, скопивший огромное состояние, но оставшийся в конце своего пути совершенно один. Гобсек – так зовут этого героя – ни с кем не общается, мало выходит из дому. Единственный человек, кому он доверяет – Дервиль. Ростовщик видел в нем и делового товарища, и умного собеседника, и хорошего человека.
Молодой стряпчий, общаясь со стариком, набирается опыта, просит рекомендации и совета. Наблюдая за ростовщиком, Дервиль сделал вывод, что в нем живут двое: существо подлое и возвышенное, скряга и философ.
Жизненный опыт научил старика оценивать человека с первого взгляда, мыслить и анализировать. Он часто рассуждал о смысле жизни. Но с возрастом страсть к деньгам все же возобладала и постепенно переросла в поклонение. Возвышенные чувства переросли в эгоизм, жадность и циничность. Если в молодости он мечтал познать мир, то к концу жизни главной его целью стала охота за деньгами. Но счастья они ему не принесли, он так и умер в одиночестве со своими миллионами.
Как видно из краткого содержания по главам, Гобсек и вся его жизнь – это трагедия не отдельного человека, а целой системы. Жизнь Гобсека только подтверждает известное выражение: счастье - не в деньгах. Бальзак на его примере показал, к чему приводит бездумное поклонение звонкой монете.
Барону Баршу де Пеноэн
Из всех бывших питомцев Вандомского колледжа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще, - недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами De viris . Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь своё имя, как мне приятно поставить его.
Твой старый школьный товарищ
де Бальзак
Как-то раз зимою 1829–1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к её родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колёса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только её брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета, что подтвердило опасения матери.
Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придётся отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения - в девичестве её фамилия была Горио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф её обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но, - добавила виконтесса с лукавым видом, - пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.
Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! - воскликнул вышеупомянутый друг семьи. - Я выиграл, граф, - сказал он, обращаясь к партнёру. - Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.
Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! - воскликнула виконтесса. - Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.
Я всё понял по вашим глазам, - ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.
Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а госпожа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.
Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.
Историю?! - воскликнула Камилла. - Скорей рассказывайте, господин Дервиль!
Стряпчий бросил на госпожу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для неё интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринуждённо и держать себя в её салоне запросто, но объяснить это очень легко. Госпожа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьёй, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм цивильного листа, - положение для неё невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в своё время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По её поручению он повёл процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил её в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние госпожи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении госпожи де Гранлье он достиг почёта и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при её покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома госпожи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы госпожи де Гранлье, показал и своё дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть, в нём не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона госпожи де Гранлье, словно щёголь с Шоссе-д’Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:
Жаль, что у этого юноши нет двух-трёх миллионов. Правда?
Почему «жаль»? Я не считаю это несчастьем, - ответила она. - Господин де Ресто человек очень одарённый, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придёт к нему в руки.
Да, но вот если б он уже сейчас был богат!
Если б он был богат… - краснея, повторила Камилла, - что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга, - добавила она, указывая на участниц кадрили.
И тогда, - заметил стряпчий, - мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели, - почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите…
Камилла вспорхнула с кресла.
«Она влюблена в него», - подумал Дервиль.
С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет её склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что её семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении её с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В её манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность - это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.
Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:
Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни… Ну вот, вы уж и смеётесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придётся сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать, - речь идёт о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причёсанные и с сильной проседью - пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и жёлтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрёпанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Всё в его комнате было потёрто и опрятно, начиная от зелёного сукна на письменном столе до коврика перед кроватью, - совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрёт; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля, он берёг жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала также бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мёртвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди - человеческим сердцем. Если он бывал доволен истёкшим днём, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто поднимался дымок весёлости, - право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице Де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная её дверь выходит в длинный полутёмный коридор с маленькими оконцами. Да, это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, ещё раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу - совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырёхлетнего соседства и моего примерного поведения, которое, по причине безденежья, во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.