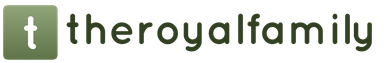Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
А. Шопенгауэр: метафизика половой любви
То, что в основе всякой половой любви лежит инстинкт, направленный исключительно на будущее дитя, - это станет для нас вполне несомненным, если подвергнуть его, названный инстинкт, более точному анализу, который поэтому неминуемо и предстоит нам.
Прежде всего надо заметить, что мужчина по своей природе обнаруживает склонность к непостоянству в любви, а женщина - к постоянству. Любовь мужчины заметно слабеет с того момента, когда она получит себе удовлетворение: почти всякая другая женщина для него более привлекательна, чем та, которою он уже обладает, и он жаждет перемены; любовь женщины, наоборот, именно с этого момента возрастает. Это - результат целей, которые ставит себе природа: она заинтересована в сохранении, а потому и в возможно большем размножении всякого данного рода существ. В самом деле: мужчина легко может произвести на свет больше ста детей в год, если к его услугам будет столько же женщин; напротив того, женщина, сколько бы мужчин она ни знала, все-таки может произвести на свет только одно дитя в год (я не говорю здесь о двойнях). Вот почему он всегда засматривается на других женщин, она же сильно привязывается к одному, ибо природа инстинктивно и без всякой рефлексии побуждает ее заботиться о кормильце и защитнике будущего потомства. И оттого супружеская верность имеет у мужчины характер искусственный, а у женщины - естественный, и таким образом, прелюбодеяние женщины как в объективном отношении, по своим последствиям, так и в субъективном отношении, по своей противоестественности, гораздо непростительнее, чем прелюбодеяние мужчины.
Но чтобы не быть голословным и вполне убедиться в том, что удовольствие, которое нам доставляет другой пол, как бы объективно оно ни казалось, на самом деле не что иное, как замаскированный инстинкт, т.е. дух рода, стремящегося к сохранению своего типа, для этого мы должны точно исследовать даже те мотивы, которые руководят нами при выборе объектов этого удовольствия, и войти здесь в некоторые специальные подробности, как ни странно может показаться, что такие детали находят себе место в философском произведении. Эти мотивы распадаются на следующие категории: одни из них относятся к типу рода, т.е. к красоте, другие имеют своим предметом психические свойства, наконец, третьи носят чисто относительный характер и возникают из необходимости взаимных коррективов или нейтрализации односторонностей и аномалий обоих любящих индивидуумов. Рассмотрим все эти категории порознь.
Главное условие, определяющее наш выбор и нашу склонность, это - возраст. В общем он удовлетворяет нас в этом отношении от того периода, когда начинаются менструации, и до того, когда они прекращаются; но особенное предпочтение отдаем мы поре от восемнадцати до двадцати восьми лет. За этими пределами ни одна женщина не может быть для нас привлекательной: старая женщина, т.е. уже не имеющая менструаций, вызывает у нас отвращение. Молодость без красоты все еще привлекательна, красота без молодости - никогда. Очевидно, соображение, которое здесь бессознательно руководит нами, это - возможность деторождения вообще; оттого всякий индивидуум теряет свою привлекательность для другого пола в той мере, в какой он удаляется от периода наибольшей пригодности для производительной функции или для зачатия. Второе условие, это - здоровье: острые болезни являются в наших глазах только временной помехой; болезни же хронические или худосочие совершенно отталкивают нас, потому что они переходят на ребенка.
Третье условие, с которым мы сообразуемся при выборе женщины, - это ее сложение, потому что на нем зиждется тип рода. После старости и болезни ничто так не отталкивает нас, как искривленная фигура: даже самое красивое лицо не может нас вознаградить за нее; напротив, мы безусловно предпочитаем самое безобразное лицо, если с ним соединяется стройная фигура. Далее, всякая непропорциональность в телосложении действует на нас заметнее и сильнее всего, например, кривобокая, скрюченная, коротконогая фигура и т.п., даже хромающая походка, если она не является результатом какой-нибудь внешней случайности. Наоборот, поразительно красивый стан может возместить всякие изъяны: он очаровывает нас. Сюда же относится и то, что все высоко ценят маленькие ноги: последние - существенный признак рода, и ни у одного животного тарсус и метатарсус, взятые вместе, не так малы, как у человека, что находится в связи с его прямою походкой: человек - существо прямостоящее. Вот почему и говорит Иисус Сирахов (26, 23, по исправленному переводу Крауза): "женщина, которая стройна и у которой красивые ноги, подобна золотой колонне на серебряной опоре". Важны для нас и зубы, потому что они играют очень существенную роль в питании и особенно передаются по наследству. Четвертое условие - это известная полнота тела, т.е. преобладание растительной функции, пластичности: оно обещает плоду обильное питание, и оттого сильная худоба сразу отталкивает нас. Полная женская грудь имеет для мужчины необыкновенную привлекательность, потому что, находясь в прямой связи с детородными функциями женщины, она сулит новорожденному обильное питание. С другой стороны, чрезмерно жирные женщины противны нам; дело в том, что это свойство указывает на атрофию матки, т.е. на бесплодие; и знает об этом не голова, а инстинкт. Только последнюю роль в нашем выборе играет красота лица. И здесь прежде всего принимаются в соображение костные части: вот почему главное внимание мы обращаем на красивый нос; короткий вздернутый нос портит все.
Счастье целой жизни для множества девушек решил маленький изгиб носа кверху или книзу; и это справедливо, потому что дело здесь идет о родовом типе. Маленький рот, обусловленный маленькими челюстями, играет очень важную роль, потому что он составляет специфический признак человеческого лица в противоположность пасти животных. Отставленный назад, как бы отрезанный подбородок в особенности противен, потому что выдающийся вперед подбородок составляет характерный признак исключительно нашего, человеческого вида. Наконец, внимание наше привлекают красивые глаза и лоб: они связаны уже с психическими свойствами, в особенности интеллектуальными, которые наследуются от матери.
Те бессознательные побуждения, которым, с другой стороны, следуют в своем выборе женщины, естественно, не могут быть нам известны с такою же точностью. В общем можно утверждать следующее. Женщины предпочитают возраст от 30 до 35 лет и отдают ему преимущество даже перед юношеским возрастом, когда на самом деле человеческая красота достигает высшего расцвета. Объясняется это тем, что женщинами руководит не вкус, а инстинкт, который в мужественном возрасте угадывает кульминационный пункт производительной силы. Вообще, они мало обращают внимания на красоту, т.е., собственно, на красоту лица: точно они берут всецело на себя дать ее ребенку. Главным образом побеждает их сила и связанная с нею отвага мужчины, потому что это обещает им рождение здоровых детей и в то же время мужественного защитника последних. Каждый физический недостаток мужчины, каждое уклонение от типа женщина может в родившемся дитяти парализовать, если она сама в тех же отношениях безукоризненна или представляет уклонение в противоположную сторону. Отсюда необходимо исключить только те свойства мужчины, которые специально присущи его полу и которых поэтому мать не может передать своему ребенку: сюда относятся мужское строение скелета, широкие плечи, узкие бедра, прямые ноги, мускульная сила, мужество, борода и т.п. Вот почему женщины часто любят безобразных мужчин; но никогда не полюбит женщина мужчину немужественного, потому что она не могла бы нейтрализовать его недостатков.
Вторая категория мотивов, лежащих в основе половой любви, - это та, которая относится к психическим свойствам. В этой области мы видим, что женщину всегда привлекают в мужчине достоинства его сердца, или характера, которые составляют отцовское наследие. В особенности пленяют женщину сила воли, решительность и мужество, а также, пожалуй, благородство и доброе сердце. Напротив того, интеллектуальные преимущества не имеют над нею инстинктивной и непосредственной власти именно потому, что эти свойства наследуются не от отца. Ограниченность не вредит успеху у женщин; скорее помешают здесь выдающиеся умственные силы и даже гениальность, как явления ненормальные. Вот почему некрасивый, глупый и грубый мужчина нередко затмевает в глазах женщины человека образованного, даровитого и достойного. Да и браки по любви иногда заключаются между людьми, которые в духовном отношении совершенно разнородны: например, он - груб, крепок и ограничен, она - нежна, чутка, с изящной мыслью, образована, восприимчива к прекрасному и т.д., или же он - гениален и учен, она - глупа:
Так нравится Венере; любит она ради жестокой забавы склонять под железное ярмо разные лица и души.
Объясняется это тем, что преобладающую роль играют здесь вовсе не интеллектуальные, а совершенно другие побуждения, именно, побуждения инстинкта. Брак заключается не ради остроумных собеседований, а для рождения детей. Это - союз сердец, а не умов. Когда женщина утверждает, что она влюбилась в ум мужчины, то это суетная и смешная выдумка или же аномалия выродившегося существа. Что же касается мужчин, то они в своей инстинктивной любви к женщине руководятся не свойствами ее характера; вот почему столько Сократов имело своих Ксантипп, например, Шекспир, Альбрехт Дюрер, Байрон и др. Интеллектуальные же свойства, бесспорно, оказывают здесь влияние именно потому, что они передаются по наследству от матери; но все же их влияние легко перевешивается влиянием физической красоты, которая, затрагивая более существенные пункты, производит на мужчину и более непосредственное действие. И вот матери, чувствуя или зная по опыту, какую роль в глазах мужчины играет ум девушки, обучают своих дочерей изящным искусствам, языкам и т.п., для того чтобы сделать их привлекательными для мужчин; искусственными средствами приходят они на помощь интеллекту, подобно тому как в надлежащих случаях такие же средства употребляются по отношению к бедрам и груди. Необходимо помнить, что я все время веду здесь речь о совершенно непосредственном, инстинктивном влечении, из которого только и возникает настоящая влюбленность. Тот факт, что умная и образованная девушка ценит в мужчине ум и дарование, что рассудительный мужчина подвергает внимательному испытанию характер своей невесты, - все это не имеет никакого отношения к тому предмету, о котором я здесь толкую: всем этим руководится человек при благоразумном выборе для брачного союза, но не при страстной любви, которая только и служит здесь темой наших соображений.
До сих пор я рассматривал только абсолютные мотивы, т.е. такие, которые имеют силу для всякого; теперь перехожу к мотивам относительным, которые индивидуальны, потому что в них все рассчитано на то, чтобы восстановить существующий уже с изъянами родовой тип, исправить те уклонения от него, какие тяготеют на личности самого выбирающего, и таким образом дать типу его чистое выражение. Здесь поэтому всякий любит то, чего недостает ему самому. Выбор, основанный на таких относительных мотивах, исходя из индивидуальных свойств и обращаясь на индивидуальные же свойства, имеет гораздо более определенный, решительный и исключительный характер, чем тот, который исходит из мотивов абсолютных; вот почему страстная любовь, в настоящем смысле этого слова, по большей части ведет свое начало от этих относительных мотивов, и только обыкновенная, более легкая склонность вытекает из мотивов абсолютных. В связи с этим великую страсть обыкновенно зажигают в мужчине вовсе не безукоризненные, идеальные красавицы. Для возникновения подобного, действительно страстного влечения необходимо нечто такое, что можно выразить только посредством химической метафоры: оба любовника должны нейтрализовать друг друга, как нейтрализуются кислота и щелочь в среднюю соль. Необходимые для этого условия в существенном таковы. Во-первых, всякая половая определенность - односторонность. В одном индивидууме выражается она сильнее и имеет более высокую степень, чем в другом; поэтому в каждом индивидууме она может быть дополнена и нейтрализована предпочтительно теми, а не иными свойствами другого пола, ведь индивидуум нуждается в такой односторонности, которая была бы противоположна его собственной, для того, чтобы восполнить тип человечества в новом, имеющем родиться индивидууме, к свойствам которого все только и сводится. Физиологам известно, что половые признаки допускают бесчисленное множество степеней, так что мужчина спускается до отвратительной формы гинандера и гипоспадея, а женщина возвышается до грациозной андрогины; с обеих сторон дело может дойти до полного гермафродитизма, на этой ступени находятся те индивидуумы, которые занимают как раз середину между обоими полами, не могут быть причислены ни к тому, ни к другому и, следовательно, неспособны к деторождению.
Для той взаимной нейтрализации двух индивидуальностей, о которой мы говорим, необходимо поэтому, чтобы определенная степень его мужественности точно соответствовала ее женственности; при таком условии обе односторонности взаимно сгладятся. И оттого самый мужественный мужчина будет искать самой женственной женщины, и наоборот, точно так же всякий индивидуум будет тяготеть к той степени половой определенности, которая соответствует его личным свойствам. Насколько между двумя особями существует в этом смысле необходимое соотношение, это они чувствуют инстинктивно, и это, наряду с другими относительными мотивами, лежит в основании высших степеней влюбленности. И потому, когда влюбленные патетически говорят о гармонии своих душ, то в большинстве случаев это сводится к соответствию, которое существует между ними по отношению к их будущему дитяти и его совершенствам, что, очевидно, гораздо важнее, нежели гармония их душ, которая часто, вскоре после свадьбы, разрешается в самый вопиющий диссонанс. К этому примыкают и дальнейшие относительные мотивы, и все они основываются на том, что каждый индивидуум стремится подавить свои слабости, недостатки и уклонения от нормального человеческого типа в соединении с другою особью для того, чтобы они не повторились в их будущем дитяти или не разрослись до полной уродливости. Чем слабее мужчина в мускульном отношении, тем больше станет он искать сильных женщин; то же с своей стороны делают женщины. Но так как у женщин по самой их природе мускулатура обыкновенно слабее, то они обыкновенно и предпочитают мужчин посильнее.
Далее, важную роль в половой любви играет рост. Мужчины малого роста имеют решительную склонность к высоким женщинам, и наоборот. При этом любовь маленького мужчины к большим женщинам будет особенно страстна, если он сам родился от высокого отца и только благодаря влиянию матери остался невысоким: это потому, что от отца унаследовал он такую систему сосудов и такую энергию ее, которые могли бы снабжать кровью большое тело. Если же его отец и дед сами уже были малого роста, то эта склонность будет менее заметна. Если большие женщины не любят больших мужчин, то это объясняется тем, что природа стремится не допускать слишком зрелого поколения в тех случаях, когда при силах данной женщины оно оказалось бы слишком слабо для того, чтобы быть долговечным. И если такая женщина все же выберет себе великорослого супруга, хотя бы для большей представительности в обществе, то за эту глупость должно будет расплачиваться потомство.
Очень важна далее и окраска волос. Белокурые непременно тяготеют к черноволосым или шатенкам; наоборот же бывает редко. Объясняется это тем, что белокурые волосы и голубые глаза составляют уже некоторую игру природы, почти аномалию, нечто вроде белых мышей или, по крайней мере, белой лошади. Они не встречаются ни в какой другой части света, кроме Европы; их нет даже вблизи полюсов, и вышли они, очевидно, из Скандинавии. Кстати, выскажу здесь свое мнение, что белый цвет кожи не естествен для людей, а природная кожа их - черная или коричневая, как у наших родоначальников-индусов; первоначально из недр природы не выходил ни один белый человек, и следовательно, белой расы вовсе и не существует, несмотря на все толки о ней: каждый белый человек - это человек вылинявший. Оттесненный на чуждый для него север, где он чувствует себя каким-то экзотическим растением и подобно ему зимою нуждается в теплице, человек на протяжении тысячелетий сделался белым. Цыгане, это индийское племя, которое переселилось к нам не более четырех столетий назад, являют нам переход от индусской окраски тела к нашей. Вот почему в половой любви природа стремится обратно к черным волосам и темным глазам, т.е. к своему прототипу. Что же касается белого цвета кожи, то он стал нашей второй природой, хотя и не настолько, чтобы нас отталкивал коричневый цвет индусов.
Наконец, и в отдельных органах каждый ищет корректива для своих недостатков и аномалий, и тем усерднее, чем важнее самый орган. Вот почему курносые индивидуумы несказанно любят носы ястребиные, физиономии попугаеподобные. То же замечается и относительно других органов. Люди чрезмерно стройные, с раздавшимся в длину телом, могут даже находить привлекательность в приземистых и сутуловатых личностях.
Аналогичное действие имеют особенности темперамента: всякий предпочитает темперамент, противоположный собственному, но лишь в той мере, в какой последний отличается полной определенностью. Кто сам в каком-либо отношении вполне совершенен, тот, если и не тяготеет в другой особи к соответственным недостаткам, во всяком случае легче других примиряется с ними, потому что сам он обеспечивает своих будущих детей от больших недостатков в данном отношении. Кто, например, обладает очень белым цветом кожи, того не оттолкнет в другой особи желтоватый цвет лица, а кто сам отличается желтизною, тот в ослепительной белизне будет видеть нечто божественно-прекрасное. Редкий случай, чтобы мужчина влюбился в чрезвычайно безобразную женщину, бывает тогда, когда при упомянутой выше точной гармонии в степени половой характерности все аномалии этой женщины как раз противоположны его собственным, т.е. составляют по отношению к ним корректив.
Та глубокая серьезность, с которой мы испытующе рассматриваем каждую часть женского тела и с которой женщины в свою очередь рассматривают мужчин; та критическая разборчивость, с которой мы оглядываем женщину, начинающую нам нравиться; то напряженное внимание, с которым жених наблюдает свою невесту; его осмотрительность и опасение, как бы не обмануться ни в одном ее органе; то высокое значение, которое он приписывает всякому плюсу или минусу в наиболее существенных органах ее, - все это вполне отвечает серьезности самой цели отношений, возникающих между данной четою. Ибо над их ребенком в течение всей его жизни будут тяготеть изъяны материнского органа; если, например, женщина хоть несколько кривобока, то она легко может взвалить на плечи своего сына горб, так это обстоит и по отношению ко всем остальным органам. Конечно, весь этот трудный выбор женщины производится нами не сознательно, наоборот, всякий воображает, будто он действует исключительно ради собственного наслаждения (которое в сущности может здесь и не играть никакой роли). Однако, несмотря на эту бессознательность, всякий делает именно такой выбор, какой, при наличности его собственной структуры, соответствует интересам рода: сохранить тип этого рода в возможной чистоте - вот что является здесь тайною задачей.
Индивидуум действует здесь бессознательно для самого себя, по поручению некоторого высшего начала - рода: отсюда та важность, какую он придает вещам, к которым он, в качестве индивидуума, мог бы и даже должен был бы относиться равнодушно. Есть нечто совершенно своеобразное в той глубокой, бессознательной серьезности, с какою два молодых человека разного пола рассматривают друг друга при первой встрече, в тех испытующих и проницательных взглядах, которыми они обмениваются, в том внимательном осмотре, которому они оба подвергают все черты и органы друг друга. Это изучение и испытание - не что иное, как размышление гения рода о том индивидууме, который может родиться от данной четы, и о комбинациях его свойств. От результатов этого размышления зависит степень того, насколько молодые люди понравятся друг другу и насколько сильно будет их взаимное влечение. Последнее, достигнув уже значительной степени, может внезапно опять угаснуть, если откроется что-нибудь такое, что раньше оставалось незамеченным.
Таким образом, во всех людях, способных к деторождению, гений рода размышляет о грядущем поколении. Созидание последнего - вот та великая работа, которой неустанно занимается Купидон в своих делах, в своих мечтах и мыслях. Сравнительно с важностью его великого дела, которое касается рода и всех грядущих поколений, дела индивидуумов в их эфемерной совокупности очень мелки, и поэтому Купидон всегда готов без дальней думы принести эти индивидуумы в жертву. Ибо он относится к ним, как бессмертный к смертным, и его интересы относятся к их интересам, как бесконечное к конечному. Итак, Купидон в сознании того, что он ведает заботы гораздо высшего порядка, нежели те, которые касаются только индивидуального благополучия и горя, отдается им с возвышенной невозмутимостью - в шуме войны, в сутолоке практической жизни или в разгаре чумы, и они влекут его даже в уединенные кельи монастыря.
Выше мы видели, что интенсивность влюбленности возрастает с ее индивидуализацией: мы указали, что физические свойства обоих индивидуумов должны быть таковы, чтобы в целях возможно лучшего восстановления родового типа один индивидуум служил вполне специфическим и совершенным восполнением другого и поэтому чувствовал вожделение исключительно к нему. В этом случае возникает уже серьезная страсть, которая именно потому, что она обращена на единственный объект и только на него один, т.е. действует как бы по специальному поручению рода, непосредственно и получает более возвышенный и благородный характер. Наоборот, обыкновенное половое влечение пошло, так как, чуждое индивидуализации, оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без достаточного внимания к его качеству. Индивидуализация же, а с нею и интенсивность влюбленности, может иногда достигнуть такой высокой степени, что если ей не дают удовлетворения, то все блага мира и даже самая жизнь теряют для нас всякую цену. Она превращается тогда в желание, которое возрастает до совершенно необычайной напряженности, ради которого мы готовы на всякие жертвы и которое, если нам бесповоротно отказывают в его осуществлении, способно довести до сумасшествия или до самоубийства. В основе такой чрезмерной страсти, вероятно, лежат какие-то другие бессознательные побуждения, помимо указанных выше, для нас не столь очевидные. Мы должны поэтому допустить, что здесь не только телесные организации, но и воля мужчины и интеллект женщины находятся между собою в каком-то специальном соответствии, в результате чего только они именно, этот мужчина и эта женщина, и могут породить вполне определенную особь, существование которой задумал гений рода по соображениям, коренящимся во внутренней сущности вещей и потому для нас недоступным. Или, говоря точнее: воля к жизни хочет здесь объективироваться в совершенно определенном индивидууме, который может произойти только от этого отца и от этой матери. Это метафизическое вожделение воли, как таковой, не имеет непосредственно другой сферы действия в ряду живых существ, кроме как сердца будущих родителей, которые поэтому и охватываются любовным порывом и мнят, будто они только ради самих себя желают того, что на самом деле пока имеет еще цель только чисто метафизическую, т.е. лежащую вне сферы реально наличных вещей.
Таким образом, вытекающее из первоисточника всех существ стремление будущего индивидуума, который здесь выступает только как возможный, стремление этого индивидуума войти в бытие - вот что в явлении представляется нам как высокая, всем другим пренебрегающая страсть будущих родителей друг к другу; а на самом деле это - беспримерная иллюзия, в силу которой влюбленный готов отдать все блага мира за то, чтобы совокупиться именно с этой женщиной, между тем как в действительности она не даст ему ничего больше, чем всякая другая. А что все дело здесь именно в совокуплении, вытекает из того, что даже эта высокая страсть, как и всякая другая, гаснет в наслаждении, к великому изумлению ее участников. Она гаснет и тогда, когда возможная бесплодность женщины (по Гуфеланду, это бывает в силу девятнадцати случайных недостатков телосложения) разрушает истинную метафизическую цель полового общения, как рушится последняя и ежедневно в миллионах растаптываемых зародышей, в которых стремится к бытию то же метафизическое жизненное начало; в этой потере нет другого утешения, кроме того, что воле к жизни открыта бесконечность пространства, времени, материи, а следовательно - и неисчерпаемая возможность вернуться в бытие.
По-видимому, Теофраст Парацельз, который не обсуждал этой темы и был очень далек от всего строя моих воззрений, все-таки напал, хотя и мимолетно, на изложенную здесь мысль: дело в том, что в совершенно другом контексте и в своей обычной беспорядочной манере он сделал однажды следующее интересное замечание: "это - те, которых совокупил Бог, подобно той, которая принадлежала Урии и Давиду; хотя это (так внушила тебе человеческая мысль) и диаметрально противоречило честному и законному супружеству... Но ради Соломона, который не мог родиться ни от кого другого, кроме как от Вирсавии в соединении с семенем Давида, Бог и сочетал его с нею, хотя и стала она прелюбодейкой" ("О долгой жизни", I, 5). Тоска любви, которую поэты всех времен неутомимо воспевали на разные и бесконечные лады и которой все-таки не исчерпали, которая даже не под силу их изобразительной мощи; эта тоска, которая с обладанием определенной женщиной соединяет представление о бесконечном блаженстве и невыразимую печаль соединяет с мыслью, что такое обладание недостижимо, - эта тоска и эта печаль любви не могут почерпать своего содержания из потребностей какого-нибудь эфемерного индивидуума: нет, это - вздохи гения рода, который видит, что здесь ему суждено обрести или потерять незаменимое средство для своих целей, и потому он глубоко стонет. Только род имеет бесконечную жизнь, и поэтому только он способен к бесконечным желаниям, к бесконечному удовлетворению и к бесконечным скорбям. Между тем здесь, в любви, все это заключено в тесную грудь смертного существа: что же удивительного, если эта грудь иногда готова разорваться и не может найти выражения для переполняющих ее предчувствий бесконечного блаженства или бесконечной скорби? Вот что, следовательно, дает содержание высоким образцам всякой эротической поэзии, которая поэтому и изливается в трансцендентных метафорах, воспаряющих над всем земным.
Об этом пел Петрарка, это - материал для Сен-Пре, Вертеров и Джакопо Ортизи, которых иначе нельзя было ни понять, ни объяснить. Ибо на каких-нибудь духовных, вообще объективных, реальных преимуществах любимой женщины не может покоиться та бесконечно высокая оценка, которую мы делаем нашей возлюбленной, хотя бы уже потому, что последняя для этого часто недостаточно знакома влюбленному, как это было в случае с Петраркой. Только дух рода один может видеть с первого же взгляда, какую цену имеет женщина для него, для его целей. И великие страсти возникают обыкновенно с первого же взгляда: "Любил ли тот, кто сразу не влюбился?" (Шекспир. "Как Вам это понравится?". III, 5). Замечательно в этом отношении одно место из знаменитого, вот уже двести пятьдесят лет, романа "Гузман де Альфараш" Маттео Алемана: "Для того чтобы полюбить, не нужно много времени, не нужно размышлять и делать выбор: необходимо только, чтобы при первом и едином взгляде возникло некоторое взаимное соответствие и сочувствие, то, что в обыденной жизни мы называем обыкновенно симпатией крови и для чего надобно особое влияние созвездий" (ч. II, кн. III, гл. 5). Вот почему и утрата любимой женщины, похищенной соперником или смертью, составляет для страстно влюбленного такую скорбь, горше которой нет ничего: эта скорбь имеет характер трансцендентный, потому что она поражает человека не как простой индивидуум, а в его вечной сущности, в жизни рода, чью специальную волю и поручение он исполнял своей любовью. Оттого-то ревность столь мучительна и яростна, и отречься от любимой женщины - это значит принести величайшую из жертв. Герой стыдится всяких жалоб, но только не жалоб любви; ибо в них вопит не он, а род. В "Великой Зиновии" Кальдерона Децием говорит:
О небо, значит, ты любишь меня?
За это я отдал бы тысячи побед,
Отступил бы с поля брани и т.д.
Таким образом, честь, которая до сих пор преобладала над всеми интересами, сейчас же уступает поле битвы, как только в дело вмешивается половая любовь, т.е. интересы рода; на стороне любви оказываются решительные преимущества, потому что интересы рода бесконечно сильнее, чем самые важные интересы, касающиеся только индивидуумов. Исключительно перед интересами рода отступают честь, долг и верность, которые до сих пор противостояли всяким другим искушениям и даже угрозам смерти. Обращаясь к частной жизни, мы тоже видим, что ни в одном пункте совестливость не встречается так редко, как именно здесь: даже люди вполне правдивые и честные иногда поступаются своею честностью и не задумываясь изменяют супружескому долгу, когда ими овладевает страстная любовь, т.е. интересы рода. И кажется даже, что в этом случае они находят для себя оправдание более высокое, нежели то, какое могли бы представить какие бы то ни было интересы индивидуумов, именно потому, что они поступают в интересах рода. Замечательно в этом смысле изречение Шамфора: "когда мужчина и женщина питают друг к другу сильную страсть, то мне всегда кажется, что каковы бы ни были препоны, их разлучающие (муж, родные и т.д.), влюбленные предназначены друг для друга самой природой, имеют друг на друга божественное право, вопреки законам и условностям человеческого общежития". Кто вздумал бы возмущаться этим, пусть вспомнит то поразительное снисхождение, с каким Спаситель отнесся в Евангелии к грешнице: ведь Он такую же точно вину предполагал и во всех присутствовавших.
С этой точки зрения, большая часть "Декамерона" представляет собою не что иное, как издевательство и насмешку гения рода над правами и интересами индивидуумов, над интересами, которые он попирает ногами. С такою же легкостью гений рода устраняет и обращает в ничто все общественные различия и тому подобные отношения, если они противодействуют соединению двух страстно влюбленных существ: в стремлении к своим целям, направленным на бесконечные ряды грядущих поколений, как пух, сдувает он со своего пути все подобные условности и соображения человеческих уставов. В силу тех же глубоких оснований, там, где дело идет о цели, к которой стремится любовная страсть, человек охотно идет на всякую опасность, и даже робкий становится тогда отважным. Точно так же и в драмах и романах мы с участием и отрадой видим, как молодые герои борются за свою любовь, т.е. за интересы рода, как они в этой борьбе одерживают победу над стариками, которые думают только о благе индивидуумов. Ибо стремления влюбленных представляются нам настолько важнее, возвышеннее и потому справедливее, чем всякое другое стремление, ему противодействующее, насколько род значительнее индивидуума. Вот почему основной темой почти всех комедий служит появление гения рода с его целями, которые противоречат личным интересам изображаемых индивидуумов и потому грозят разрушить их счастье. Обыкновенно гений рода достигает своих целей, и это, как соответствующее художественной справедливости, дает зрителю удовлетворение: ведь последний чувствует, что цели рода значительно возвышаются над целями индивидуума. И оттого в последнем действии зритель вполне спокойно покидает увенчанных победой любовников, так как и он разделяет с ними ту иллюзию, будто они воздвигли этим фундамент собственного счастья, между тем как на самом деле они пожертвовали им для блага рода, вопреки желанию предусмотрительных стариков. В некоторых неестественных комедиях были попытки представить все дело в обратном виде и упрочить счастье индивидуумов в ущерб целям рода: но тогда зритель чувствует ту скорбь, какую испытывает при этом гений рода, и не утешают его приобретенные такою ценою блага индивидуумов. Как примеры этой категории, можно назвать две очень известные маленькие пьесы: "16-летняя королева" и "Брак по расчету". В большинстве трагедий с любовной интригой, когда цели рода не осуществляются, влюбленные, которые служили его орудием, тоже погибают, например, в "Ромео и Джульетте", "Танкреде", "Дон Карлосе", в "Валленштейне", "Мессинской невесте" и т.д.
Когда мужчина влюблен, то это часто порождает комические, а иногда и трагические эпизоды, и то, и другое потому, что, одержимый духом рода, он всецело подпадает его власти и не принадлежит больше самому себе: вот отчего его поступки и не соответствуют тогда существу индивидуальному. Если на высших ступенях влюбленности его мысли получают возвышенную и поэтическую окраску, если они принимают даже трансцендентное и сверхфизическое направление, в силу которого он, по-видимому, совершенно теряет из виду свою настоящую, очень физическую цель, то это объясняется тем, что он вдохновлен теперь гением рода, дела которого бесконечно важнее, чем все касающееся только индивидуумов, вдохновлен для того, чтобы во исполнение его специального поручения заложить основание всей жизни для неопределенно долгого ряда грядущих поколений, отличающихся именно данными, индивидуально и строго определенными, свойствами, которые они, эти поколения, могут получить только от него, как отца, и от его возлюбленной, как матери, причем самые эти поколения, как таковые, иначе, т.е. помимо него, никогда не могли бы достигнуть бытия, между тем как объективация воли к жизни этого бытия решительно требует. Именно смутное сознание того, что здесь совершается событие такой трансцендентной важности, - вот что поднимает влюбленного столь высоко над всем земным, даже над самим собою, и дает его весьма физическим желаниям такую сверхфизическую оболочку, что любовь является поэтическим эпизодом даже в жизни самого прозаического человека (в последнем случае дело принимает иногда комический вид). Это поручение воли, объективирующейся в роде, представляется сознанию влюбленного под личиной антиципации бесконечного блаженства, которое он будто бы может найти в соединении именно с этой, индивидуальной женщиной.
На высших ступенях влюбленности эта химера облекается в такое сияние, что в тех случаях, когда она не может осуществиться, жизнь теряет для человека всякую прелесть и обращается в нечто столь безрадостное, пустое и противное, что отвращение к ней перевешивает даже страх смерти, и люди в этом положении часто добровольно обрывают свою жизнь. Воля такого человека попадает в водоворот воли рода; иначе говоря, последняя настолько берет перевес над индивидуальной волей, что если та не может действенно проявиться в своем первом качестве, как воля рода, то она презрительно отвергает и действенность в качестве последнем, как воли индивидуальной. Индивидуум является здесь слишком слабым сосудом для того, чтобы он мог вместить в себе беспредельную тоску воли рода, тоску, которая сосредоточивается на каком-нибудь определенном объекте. Вот почему в этих случаях исходом бывает самоубийство, иногда двойное самоубийство влюбленных; помешать ему может только природа, когда она для спасения жизни насылает безумие, которое своим покровом облекает для человека сознание этого безнадежного положения. Года не проходит, чтобы несколько подобных случаев не подтверждали всей реальности того, о чем я говорю.
Но не только неудовлетворенная любовь имеет порою трагический исход: нет, и удовлетворенная тоже чаще ведет к несчастью, чем к счастью. Ибо ее притязания нередко так сильно сталкиваются с личным благополучием влюбленного, что подрывают последнее, так как они несоединимы с прочими сторонами его существования и разрушают построенный на них план его жизни. Да и не только с внешними обстоятельствами любовь часто вступает в противоречие, но даже и с собственной индивидуальностью человека, ибо страсть устремляется на такие существа, которые, помимо половых отношений, способны возбуждать у влюбленного одно только презрение, ненависть и даже прямое отвращение. Но воля рода настолько могущественнее воли индивидуума, что влюбленный закрывает глаза на все эти непривлекательные для него свойства, ничего не видит, ничего не сознает и навсегда соединяется с предметом своей страсти; так ослепляет его эта иллюзия, которая, лишь только воля рода получит себе удовлетворение, исчезает и взамен себя оставляет ненавистную спутницу жизни. Только этим и объясняется, что очень умные и даже выдающиеся мужчины часто соединяются с какими-то чудовищами и дьяволами в образе супруг, и мы тогда удивляемся, как это они могли сделать подобный выбор. Вот почему древние и изображали Амура слепым. Влюбленный может даже ясно видеть и с горечью сознавать невыносимые недостатки в темпераменте и характере своей невесты, сулящие ему несчастную жизнь, и тем не менее это не пугает его:
Не тужу я, не спрошу я,
В чем твоя вина.
Знаю только, что люблю я,
Кто б ты ни была.
Ибо в сущности влюбленный преследует не свои интересы, а интересы кого-то третьего, который должен еще только возникнуть, хотя и пленяет его иллюзия, будто он старается здесь о своем личном деле. Но именно это стремление не к личным интересам, которое характеризует все великое, и придает страстной любви оттенок возвышенного и делает ее достойным объектом поэтического творчества.
Наконец, половая любовь уживается даже с сильнейшей ненавистью к ее предмету; вот почему еще Платон сравнил ее с любовью волка к овцам. Это бывает именно тогда, когда страстно влюбленный, несмотря на все свои усилия и мольбы, ни за что не может добиться благосклонности: "Я люблю ее и ненавижу ее" (Шекспир. Цимб[елин], III, 5).
Возжигающаяся тогда ненависть к любимой женщине заходит порою столь далеко, что влюбленный убивает ее, а затем и себя. По нескольку случаев такого рода обыкновенно происходит каждый год: прочтите в газетах. Совершенно верны поэтому следующие стихи Гете ("Фауст", перевод Н. Холодковского):
Клянусь отвергнутой любовью, бездной ада!
Ругался б хуже я, да нечем - вот досада.
Это в самом деле не гипербола, когда влюбленный называет жестокостью холодность возлюбленной и тщеславное удовольствие, которое она испытывает, глядя на его страдания. Ибо он находится во власти такого побуждения, которое, будучи родственно инстинкту насекомых, заставляет его, вопреки всем доводам рассудка, неуклонно стремиться к своей цели и ради нее пренебрегать всем другим: иначе он делать не может. На свете был не один Петрарка: их было много - людей, которые неудовлетворенную тоску своей любви должны были в течение всей своей жизни влачить на себе как вериги, как оковы на ногах и в одиночестве лесов изливать свои стоны; но только одному Петрарке был в то же время присущ и поэтический гений, так что к нему относятся прекрасные стихи Гете:
И пусть человек онемел в своих муках,
Во мне есть Божий дар сказать, как я страдаю.
В действительности гений рода ведет постоянную борьбу с гениями-хранителями индивидуумов; он - их гонитель и враг, он всегда готов беспощадно разбить личное счастье, для того чтобы достигнуть своих целей, и даже благо целых народов иногда приносилось в жертву его капризам: пример этого дает нам Шекспир в "Генрихе VI" (часть 3, действие 3, явления 2 и 3). Все это объясняется тем, что род, в котором лежат корни нашего существа, имеет на нас более близкое и раннее право, чем индивидуум; вот почему интересы рода преобладают в нашей жизни. Это чувствовали древние, и потому они олицетворяли гений рода в Купидоне: несмотря на свой детский облик, это был неприязненный, жестокий и оттого обесславленный бог, капризный, деспотический демон, но в то же время владыка богов и людей: "Ты, Амур, тиран богов и людей".
Смертоубийственный лук, слепота и крылья - вот его атрибуты. Последние указывают на его непостоянство: оно обыкновенно возникает лишь вместе с разочарованием, которое является в результате удовлетворения.
Так как страсть зиждется на иллюзии, которая то, что имеет цену для рода, представляет как нечто ценное для индивидуума, то по удовлетворении цели рода эти чары должны исчезнуть. Дух рода, овладевший было индивидуумом, теперь снова отпускает его на волю. И отпущенный им, индивидуум снова впадает в свою первоначальную ограниченность и скудость; и с изумлением видит он, что после столь высоких, героических и беспредельных исканий он не получил другого наслаждения, кроме того, которое связано с обычным удовлетворением полового инстинкта; против ожидания он не чувствует себя счастливее, чем прежде. Он замечает, что его обманула воля рода. Вот почему, осчастливленный, Тезей обыкновенно покидает свою Ариадну. Если бы страсть Петрарки обрела себе удовлетворение, то с этого момента смолкли бы его песни, как замолкает птица, когда она положит свои яйца.
Замечу кстати, что хотя моя метафизика любви должна особенно не понравиться именно тому, кто опутан сетями этой страсти, тем не менее, если доводы рассудка вообще могут иметь какую-нибудь силу в борьбе с нею, то раскрытая мною истина должна больше всего другого способствовать победе над страстью. Но, конечно, всегда останется в силе изречение древнего комика: "бессилен разум над тем, что само по себе лишено всякой разумности и меры".
Браки по любви заключаются в интересах рода, а не индивидуумов. Правда, влюбленные мнят, что они идут навстречу собственному счастью: но действительная цель их любви чужда им самим, потому что она заключается в рождении индивидуума, который может произойти только от них. Соединенные этой целью, они вынуждены впоследствии уживаться друг с другом как знают; но очень нередко чета, соединенная этой иллюзией инстинкта, которая составляет сущность страстной любви, во всех других отношениях представляет нечто весьма разнородное. Это обнаруживается тогда, когда иллюзия в силу необходимости исчезает.
Вот почему браки по любви и бывают обыкновенно несчастливы: в них настоящее поколение приносится в жертву для блага поколений грядущих. "Кто женится по любви, тот будет жить в печали", - говорит испанская пословица. Обратное дело обстоит с браками по расчету, которые большею частью заключаются по выбору родителей. Соображения, господствующие здесь, какого бы рода они ни были, по меньшей мере реальны, и сами по себе они не могут исчезнуть. В них забота направлена на благо текущего поколения, хотя, правда, и в ущерб поколению грядущему, причем это благо текущего поколения остается все-таки проблематично. Мужчина, который при женитьбе руководится деньгами, а не своею склонностью, живет больше в индивидууме, чем в роде, а это прямо противоречит истинной сущности мира, является чем-то противоестественным и возбуждает известное презрение. Девушка, которая вопреки совету своих родителей отвергает предложение богатого и нестарого человека, для того чтобы, отбросив всякие условные соображения, сделать выбор исключительно по инстинктивному влечению, приносит в жертву свое индивидуальное благо благу рода. Но именно потому ей нельзя отказать в известном одобрении, так как она предпочла более важное и поступила в духе природы (точнее - рода), между тем как совет родителей был проникнут духом индивидуального эгоизма.
В силу всего этого дело получает такой вид, как будто при заключении брака надо поступаться либо индивидуумом, либо интересами рода. И действительно, в большинстве случаев так и бывает: ведь это очень редкий и счастливый случай, чтобы условные соображения и страстная любовь шли рука об руку. Если большинство людей в физическом, моральном или интеллектуальном отношении столь жалки, то отчасти это, вероятно, объясняется тем, что браки обыкновенно заключаются не по прямому выбору и склонности, а в силу разного рода внешних соображений и под влиянием случайных обстоятельств. Если наряду с расчетом в известном смысле принимается в соображение и личная склонность, то это представляет собою как бы сделку с гением рода. Как известно, счастливые браки редки: такова уже самая сущность брака, что главною целью его служит не настоящее, а грядущее поколение.
Но в утешение нежных и любящих душ прибавлю, что иногда к страстной половой любви присоединяется чувство совершенно другого происхождения - именно настоящая дружба, основанная на солидарности взглядов и мыслей; впрочем, она большей частью является лишь тогда, когда собственно половая любовь, удовлетворенная, погасает. Такая дружба в большинстве случаев возникает оттого, что те физические, моральные и интеллектуальные свойства обоих индивидуумов, которые дополняют одни другие и между собою гармонируют и из которых в интересах будущего дитяти зародилась половая любовь, эти самые свойства, как противоположные черты темперамента и особенности интеллекта, и по отношению к самим индивидуумам восполняют одни другие и этим создают гармонию душ.
Вся изложенная здесь метафизика любви находится в тесной связи с моей метафизикой вообще, и освещение, которое она дает последней, можно резюмировать в следующих словах. Мы пришли к выводу, что тщательный и через бесконечные ступени до страстной любви восходящий выбор при удовлетворении полового инстинкта основывается на том в высшей степени серьезном участии, какое человек принимает в специфически личных свойствах грядущего поколения. Это необыкновенно примечательное участие подтверждает две истины, изложенные мною в предыдущих главах:
1) То, что неразрушима внутренняя сущность человека, которая продолжает жить в грядущем поколении. Ибо это столь живое и ревностное участие, которое возникает не путем размышления и преднамеренности, а вытекает из самых сокровенных побуждений нашего существа, не могло бы отличаться таким неискоренимым характером и такой великой властью над человеком, если бы он был существо абсолютно преходящее и если бы поколение, от него реально и безусловно отличное, приходило ему на смену только во времени.
2) То, что внутреннее существо человека лежит больше в роде, чем в индивидууме. Ибо тот интерес к специфическим особенностям рода, который составляет корень всяческих любовных отношений, начиная с мимолетной склонности и кончая самой серьезной страстью, этот интерес, собственно говоря, представляет для каждого самое важное дело в жизни: удача в нем или неудача затрагивает человека наиболее чувствительным образом; вот почему такие дела по преимуществу и называются сердечными делами. И если этот интерес приобретает решительное и сильное значение, то перед ним отступает всякий другой интерес, направленный только на собственную личность индивидуума, и в случае нужды приносится ему в жертву. Этим, следовательно, человек свидетельствует, что род лежит к нему ближе, чем индивидуум, и что он непосредственнее живет в первом, нежели в последнем.
Итак, почему же влюбленный так беззаветно смотрит и не насмотрится на свою избранницу и готов для нее на всякую жертву? Потому что к ней тяготеет бессмертная часть его существа: всего же иного желает только его смертное начало. Таким образом, то живое или даже пламенное вожделение, с каким мужчина смотрит на какую-нибудь определенную женщину, представляет собой непосредственный залог неразрушимости ядра нашего существа и его бессмертия в роде.
И считать такое бессмертие за нечто малое и недостаточное - это ошибка; объясняется она тем, что под грядущей жизнью в роде мы не мыслим ничего иного, кроме грядущего бытия подобных нам, но ни в каком отношении не тождественных с нами существ; а такой взгляд в свою очередь объясняется тем, что исходя из познания, направленного вовне, мы представляем себе только внешний облик рода, как мы его воспринимаем наглядно, а не внутреннюю сущность его. Между тем именно эта внутренняя сущность и есть то, что лежит в основе нашего сознания, как его зерно, что поэтому непосредственнее даже, чем самое сознание, и что как вещь в себе, свободная от принципа индивидуации, представляет собою единое и тождественное начало во всех индивидуумах, существуют ли они одновременно или проходят друг за другом. Эта внутренняя сущность - воля к жизни, т.е. именно то, что столь настоятельно требует жизни и жизни в будущем, то, что недоступно для беспощадной смерти. Но и с другой стороны, эта внутренняя сущность, эта воля к жизни, не может обрести себе лучшего состояния, нежели то, каким является ее настоящее; а поэтому вместе с жизнью для нее неизбежны беспрерывные страдания и смерть индивидуумов.
Освобождать ее от страданий предоставлено отрицанию воли к жизни, посредством которого индивидуальная воля отрешается от ствола рода и прекращает в нем свое собственное бытие. Для определения того, чем становится воля к жизни тогда, у нас нет никаких понятий и даже никакого материала для них. Мы можем охарактеризовать это лишь как нечто такое, что имеет свободу быть волей к жизни или не быть. Для последнего случая у буддизма есть слово Нирвана... Это - предел, который навсегда останется недоступным для всякого человеческого познания, как такового.
половой любовь философ
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Поиск любви и привязанности как путь, используемый для получения успокоения от тревожности. Взаимосвязь между любовью и сексуальностью в работах З. Фрейда. Типы любви и различия видов любимого объекта. А. Шопенгауэр о ничтожности и страданиях жизни.
реферат , добавлен 17.09.2011
Артур Шопенгауэр как один из самых известных мыслителей иррационализма, мизантроп. Краткая биографическая справка из жизни философа. Черты характера и образ жизни, теоретические источники его идей. Сущность кантовского идеализма, цитаты Шопенгауэра.
презентация , добавлен 04.12.2013
Тема любви в истории философии. Любовь в античной философии. Христианское понимание любви. Тема любви в философии эпохи возрождения и нового времени. Механика эроса и искусство любви Зигнумда Фрейда и Эриха Фромма.
контрольная работа , добавлен 16.11.2006
Философия любви: анализ темы любви в литературных и философский источниках. Любовь как способ человеческого существования. Тема любви в русской философии и литературе. Псевдолюбовъ и ее формы. Результаты анкетирования людей разных полов и возрастов.
реферат , добавлен 07.11.2007
Тема любви в истории философии. Любовь в античной философии. Христианское понимание любви. Тема любви в философии в эпоху возрождения и нового времени. Механика эроса и искусство любви. Механика эроса Зигмунда Фрейда. Искусство любви Эриха Фромма.
курсовая работа , добавлен 10.05.2006
Любовь в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Тема любви в романе Л.Н.Толстого "Анна Каренина". Философия любви по В.Соловьеву "Смысл любви". Сегодня человечество располагает колоссальным историко-литературным материалом для осмысления феномена люб
реферат , добавлен 05.03.2006
Рассмотрение любви как феномена: психоэнергетический уровень данного явления, определяющий основной механизм взаимодействия участвующих в нем начал; глубинный космический смысл любви; любовь с точки зрения мирового блага; психология и мистификация.
реферат , добавлен 20.05.2012
Философский смысл любви. История философских размышлений о любви. Любовь в античной философии. Первое понимание любви в Мифе об андрогинах, из уст одного из персонажей диалога Платона "Пир". Понимание страсти у Аристотеля. Христианское понимание любви.
презентация , добавлен 02.12.2016
Сущность понятия любви в различных научных системах. Аналитический обзор основных психологических теорий любви. Сущность этого понятия с точки зрения философии. Анализ представлений о различных видах любви в разные исторические эпохи и в разных культурах.
курсовая работа , добавлен 20.05.2014
Гедонизм – философия наслаждения. Сексуальность и чувство независимости. Конфлюэнтная любовь по Гидденсу. Различение двух видов любви – любви небесно-возвышенной и любви приземленной. Парадигма сексуальности. "Чистые отношения" любви. Садизм и арсанизм.
Неистребимый оптимизм Шопенгауэра, как всегда)) Стоит только посмотреть на названия работ
"Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа"
- помимо классического нытья на тему, как жесток этот мир, как коротка жизнь и каким приятным разнообразием является смерть, есть еще забавные мысли. В том числе о том, что "исчезающее и являющееся на его место есть одно и то же существо, испытавшее лишь небольшое изменение и обновление формы своего бытия". А коль скоро это применительно к животным, применительно и к человеку. Род как таковой остается неизменным, меняются только его представители, но это, по большому счету, такая мелочь. Род как воля к жизни, по сути вечен, причем не имеет ни начала, ни конца. "Из того, что мы теперь существуем, следует, по зрелому обсуждению, то, что мы должны существовать во всякое время".
Quel jour sommes-nous? - Nous sommes tous les jours. Индивидуальность же так жалка и ничтожна, что "требовать бессмертия индивидуальности - все равно, что желать бесконечного повторения одной и той же ошибки"
. Неразрушима одна лишь воля. Есть только воля. Воля и боль (с)
Все вышесказанное приводит нас к мысли о переселении душ. Ш. замечает, что "в христианстве место учения о переселении душ и об искуплении последними всех грехов, содеянных в прежней жизни, заняло учение о первородном грехе, т.е. об искуплении греха, содеянного другим индивидуумом"
. Что, я бы сказала, весьма несправедливо.
"Метафизика половой любви"
ужасно забавна, как сочинение человека, который знает о любви из романов и сочинений других таких же безнадежных в этом отношении товарищей, типа Канта. И на этих обширных знаний строит свою философию, суть которой состоит в том, что любовью управляет некая "воля рода", целиком направленная на появление на свет максимально здорового и жизнеспособного потомства. Вот почему люди влюбляются а)в молодых и здоровых, б)в свою противоположность, чтобы негативные качества одного погасились позитивными другого. Вкратце - все. Злобная воля рода внушает индивидууму иллюзию, что влюбившись, он стремиться к счастью для себя, между тем как на самом деле он всего лишь выполняет биологическую программу. С одной стороны, Ш. в основном, конечно, прав, а с другой - все это слишком поверхностно, а "примеры" вообще вызывают нервный смех.
Отдельный гылол - это глава о педерастии. Сложно отрицать, что она есть, вон, и античные классики сплошь и рядом на нее ссылаются. "А если педерастия есть - значит, это кому-то нужно!" - заключает Ш. Ну разумеется, вот и ответ готов: оказывается, люди оттого становятся педерастами, что с чем-то у них не очень и природа решила, что лучше бы им не размножаться. Ну там, старые или больные особи, которые дадут нежизнеспособное потомство. А любви-то хочется! Вот вам и ответ Это так смешно, что даже слегка неловко за афтора...
"Идеи этики"
- это в основном повторение уже изложенных в "Мире" тем. О том, что надо побеждать зловредную волю к жизни аскезой, целибатом и холодными ваннами... И что вообще даже одобренный церковью брак - это не более чем уступка первородному греху, а на самом деле лучше бы вовсе не размножаться. "Мы же вымрем" как возражение не принимается, потому что вымрем - так быстрее попадем в царствие небесное)) Заодно критика ВЗ и протестантизма как чересчур оптимистичных, ну просто неприлично. А эти мерзкие евреи еще и ссылаются на напустствие "плодитесь и размножайтесь", кошмар!)) Учитывая, что человеческая доля - это страдание, заповедано ведь не причинять зла своим ближним - вот и нечего детей на него обрекать.
"Христианство - это учение о глубокой вине человеческого рода, коренящейся уже в самом его бытии, и о порыве души к искуплению, которое, однако, может быть достигнуто только ценою самых тяжких жертв, подавлением собственной личности, т.е. путем совершенного переворота человеческой природы".
МЕТАФИЗИКА ПОЛОВОЙ ЛЮБВИ.*
АРТУР ШОПЕНГАУЭР.
Мы привыкли видеть поэтов занятыми изображением половой любви. Именно она составляет, как правило, главную тему всех драматических произведений, - как трагических, так и комических, как романтических, так и классических, как индийских, так и европейских. Является она и предметом лирической, а равно и эпической поэзии, особенно если причислить к ней высокие штабеля романов, которые уже несколько веков являются на свет во всех цивилизованных странах Европы с тою же регулярностью, что и плоды земные. Все эти произведения, по основному содержанию своему, суть не что иное, как разносторонние, то краткие, то подробные описания рассматриваемой страсти. А самые удачные из этих описаний, как, например, "Ромео и Юлия", "Новая Элоиза", "Вертер", обрели бессмертную славу. И если, тем не менее, Рошфуко полагает, что страстная любовь все равно что духи, - все о них говорят, но никто не видел1, - и если даже Лихтенберг2; в своем сочинении "О силе любви" оспаривает и отрицает реальность и естественность этой страсти, то это большая ошибка. Ибо невозможно, чтобы нечто чуждое и противное человеческой природе, нечто эфемерно шутовское, неустанно изображал гений поэтов всех времен, а человечество принимало с неизменным одобрением; ведь без истины не может быть прекрасного в искусстве: Прекрасна истина, она лишь нам мила"3.
И в самом деле, опыт, пусть даже не повседневный, свидетельствует, что предстающее обычно лишь мимолетной, легко укротимой склонностью при известных обстоятельствах возрастает до страсти, превосходящей любую другую и преодолевающей все опасения, все препятствия с невероятной мощью и выдержкой, так что для ее удовлетворения не колеблясь рискуют жизнью, и даже прощаются с нею, если это удовлетворение остается совершенно недоступным. Вертеры и Якопо Ортисы4 существуют не только в романе - каждый год обнаруживается их в Европе не менее чем полдюжина; sed ignotis perierunt mortibus illi5; ибо их страдания не находят себе иного летописца, кроме конторского писаря или газетного репортера. И все же читатели уголовной хроники в английских и французских газетах подтвердят верность моего замечания. Но еще более числом тех, кого эта же самая страсть приводит в умалишенный дом. Наконец, каждый год обнаруживается то один, то другой случай самоубийства пары влюбленных, на пути которых встали внешние обстоятельства, причем одно кажется мне необъяснимым: как люди, уверенные во взаимной любви и предвкушающие в наслаждении ею высшее блаженство, не предпочтут крайними мерами избавиться от всех условностей и претерпеть любые беды, - тому, чтобы утратить вместе с жизнью и то счастье, выше и больше которого для них немыслимо ничто на свете. Что же до низших степеней и простых порывов этой страсти, то они у всякого человека ежедневно перед глазами и, пока он еще не стар, чаще всего также и в сердце. Итак, после всего здесь упомянутого, невозможно сомневаться ни в реальности, ни в важности нашего предмета, и вместо того, чтобы удивляться, что и философ делает своею темой эту вечную тему всех поэтов, стоило бы подивиться тому, что вещь, играющая повсюду в человеческой жизни столь значительную роль, до сих пор почти вовсе не рассматривалась философами и остается для них неразработанным сюжетом. Больше всех этим занимался Платон, особенно в "Пире" и "Федре": однако то, что он говорит на эту тему, остается в области мифов, шуток и притч, а кроме того, большей частью, касается греческой любви к мальчикам. То немногое, что говорит о нашей теме Руссо в своем "Рассуждении о неравенстве"...6, ложно и неудовлетворительно. Кантовское обсуждение вопроса, в третьем разделе сочинения "О чувстве возвышенного и прекрасного"7, очень поверхностно и написано без знания дела, а потому отчасти также неверно. Наконец, то, как Платнер обращается с этой темой в своей "Антропологии", э 1347 и след., всякий признает плоским и неглубоким. Напротив, определение Спинозы своей чрезмерной наивностью заслуживает того, чтобы его привести: "Любовь есть удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины"8. Следовательно, мне нет нужды ни опровергать, ни использовать предшественников, - предмет сам напрашивался ко мне и сам собою вступил в общую связь моего миросозерцания. - Менее всего ожидаю я одобрения от тех, кем самим повелевает эта страсть и кто в силу этого пытается выразить свои бурные чувства в тончайших, эфирнейших образах, - им мой взгляд покажется слишком физическим, слишком материальным; как бы метафизичен, даже трансцендентен он ни был в основе своей. Пусть они для начала обдумают вот что: тот предмет, что сегодня вдохновляет их мадригалы и сонеты, - родись он восемнадцатью годами раньше, не привлек бы ни единого их взгляда. Ибо всякая влюбленность, каким бы эфирным созданием она ни представала, коренится всецело в половом влечении, да и сама она есть лишь точнее определенное половое влечение, специфицированное, индивидуализированное (в самом точном смысле этого слова). И если, памятуя об этом, взглянуть теперь на важность той роли, которую играет половая любовь, во всех ее оттенках и нюансах, не только в романах, но и в действительной жизни, где она является могущественнейшим и активнейшим из всех мотивов, кроме разве любви к жизни, - где она владеет половиной сил и помыслов младшего поколения человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого устремления, оказывает в конце концов отрицательное влияние на важнейшие дела, всякий час прерывает серьезнейшие наши занятия, смущает временами даже величайшие умы, осмеливается вмешиваться со своими пустяками в переговоры государственных мужей и поиски ученых, умело подбрасывает свои любовные посланьица, свои заветные локончики даже в министерские портфели и философские манускрипты, что ни день, затевает самые путаные, самые скверные интриги, требует себе в жертву иногда жизнь или здоровье, а подчас, богатство, положение и счастье человека, - да что там, делает честного во всем другом человека бессовестным, верного - предателем, - и значит, в целом предстает неким злокозненным демоном, стремящимся все исказить, запутать и низвергнуть, - это ли не повод воскликнуть: из чего шум?9 Для чего мольбы и неистовства, страхи и бедствия? Речь ведь идет лишь о том,чтобы каждый петушок нашел свою курочку*: чего же ради такая мелочь должна играть столь важную роль и беспрерывно нарушать и путать столь хорошо налаженную жизнь человека? Но пред серьезным исследователем дух истины мало-помалу откроет ответ: то, о чем здесь идет речь - не мелочь; более того, важность дела совершенно соразмерна серьезности и рвению занимающихся им. Конечная цель всех любовных интриг, разыгрываются ли они на котурнах или на цыпочках, действительно важнее всех прочих целей в человеческой жизни, а потому всецело достойна предельной серьезности, с которой всякий стремится к
* Я не смел здесь выразиться буквально; поэтому читатель при желании может сам перевести эту фразу на Аристофанов язык.
ней. А именно: в этих интригах определяется, ни больше ни меньше, как композиция следующего поколения. Здесь, в этих столь фривольных любовных интригах, решаются существование и свойства тех dramatis personal, которые выйдут на сцену, когда мы уже сойдем с нее. Как бытие, existentia, этих персонажей всецело обусловлено нашим половым влечением вообще, так и сущность их, essentia, опреляется и во всех отношениях фатально устанавливается индивидуальным выбором при его удовлетворении, т.е. половой любовью. Таков ключ к проблеме: применяя его, мы ближе познакомимся с ним, когда пройдем все степени влюбленности, от мимолетной склонности до сильнейшей страсти, - причем мы узнаем, что различность их происходит от степени индивидуализации выбора.
Все любовные интриги нынешнего поколения вместе взятые суть поэтому для человеческого рода серьезнейшее meditatio compositionis generationis futurae, e quae iterum pendent innumerae generationes10. Именно на этой чрезвычайной важности дела... основаны весь пафос и вся возвышенность в делах любви, трансцендентность ее восторгов и страданий, которые уже веками неустанно представляют нам поэты во множестве примеров; ибо никакая, самая интересная тема не сравнится с этой, затрагивающей родовое благо и несчастье и относящейся к другим, которые касаются лишь блага индивидов, как тело относится к плоскости. Именно поэтому так трудно сделать драму интересной без любовной интриги, поэтому же, с другой стороны, эта тема не изнашивается даже от ежедневного употребления.
То, что в индивидуальном сознании проявляется как половое влечение вообще и не направлено на определенного индивида другого пола, то в себе и вне сферы явления есть просто воля к жизни. Но то, что является в сознании как половое влечение, направленное на определенного индивида, то в себе есть воля к жизни в некоем, строго определенном индивидуальном воплощении. В этом случае половое влечение, хотя в себе оно есть лишь субъективная потребность, умеет очень искусно скрываться под маской объективного восхищения и тем самым обманывать сознание; ибо такая военная хитрость нужна природе для достижения ее целей. Но, - каким бы объективным и возвышенным ни казалось это восхищение, то, что при всякой влюбленности, тем не менее, в виду имеется исключительно порождение индивида определенного свойства, подтверждается прежде всего тем, что существенна здесь не ответная, например, любовь, а обладание, т.е. физическое наслаждение. Поэтому достоверность первой не может утешить при отсутствии второго; более того, не один уже человек в подобном положении покончил с собой. Напротив, люди сильно любящие, если не могут добиться взаимности, довольствуются обладанием, т.е. физическим наслаждением. Это доказывают все браки по принуждению, а равно и те, когда благосклонность женщины, вопреки ее отвращению, покупается большими дарами или иными жертвами; и даже случаи изнасилования. Порождение именно этого, определенного ребенка есть истинная, даже если не осознаваемая самими действующими лицами, цель всего любовного романа; способ, каким эта цель достигается, есть дело десятое. - Как бы громко ни возопили здесь тонкие, сентиментальные, а особенно влюбленные души о грубом реализме моего взгляда на вещи, - они, однако, заблуждаются. Точная определенность индивидуальностей в следующем поколении, разве это не более высокая и достойная цель, чем все их бурные переживания и сверхчувственные мыльные пузыри? Да и может ли среди земных целей встретиться цель больше и важнее этой? Она одна соответствует той глубине, с которой переживаем мы страстную любовь, - той серьезности, с которой эта любовь выступает пред нами, и той важности, которую придает она даже мелкому в ее причинах и во всех ее владениях. Лишь поскольку предполагают эту цель, как подлинную, все подробности, все муки и старания по достижению любимого предмета предстают соразмерными сути дела. Ибо не что иное, как будущее поколение, просится в бытие, во всей своей индивидуальной определенности, посреди всех усилий и хлопот. Да и само оно дает о себе знать уже в том осмотрительном, серьезном и даже капризном выборе предмета удовлетворения полового влечения, который и называют любовью. Нарастающая симпатия двух влюбленных есть, собственно, уже воля к жизни нового индивида, которого они могут и желают произвести на свет; ведь уже во встрече их страстных взглядов вспыхивает его новая жизнь и проявляется как гармоническая, органическая в будущем индивидуальность. Они чувствуют страстное желание подлинного соединения и слияния в единое существо, чтобы жить затем только лишь в нем; и это желание обретает исполнение в том, кого они порождают, ведь в нем продолжают жить наследуемые свойства их обоих, слитые и соединенные в Одно Существо. Напротив, взаимная, решительная и устойчивая неприязнь между мужчиной и женщиной указывает на то, что их возможный потомок был бы лишь плохо организованным, в себе дисгармоничным, несчастным существом... Но то, что, в конечном счете, с такой силой избирательно влечет друг к другу двух индивидов противоположного пола, - есть воплощающаяся лишь в целом роде воля к жизни, которая предчувствует соответствующую своим целям объективацию собственной сущности в том индивиде, которого они могут произвести на свет. А именно, он получит от отца волю или характер, от матери же - интеллект; телосложение - от обоих, однако фигура будет в большей степени напоминать отцовскую, а рост - соответствовать материнскому, согласно закону, проявляющемуся в помесях у животных и основанному главным образом на том, что размер плода должен соответствовать размеру матки. Как совершенно необъяснима особенная, присущая только одному человеку индивидуальность, так же точно неисследима до конца столь же особенная, индивидуальная страсть двух любящих людей, - да ведь в глубочайшей основе своей они и суть одно и то же: первая есть explicite то, чем implicite была вторая. И в самом деле, моментом первоначального возникновения нового иддивидуума, подлинным punctum saliens11 его жизни следовало бы считать тот момент, когда его родители только начинают любить друг друга, to fancy each other12, как называет это очень удачная английская поговорка, - и, как было сказано, во встрече их пристальных и страстных взглядов возникает первозачаток нового существа, который, конечно, как и большинство зачатков, чаще всего бывает раздавлен. Этот новый индивидуум есть, в своем роде, новая (Платоновская) идея, - и как все идеи с великою силой стремятся в бытие, жадно облекаясь для этого материей, которая распределяется между ними всеми законом причинности, - точно так же и эта, особенная идея человеческой индивидуальности властно жаждет своей реализации. Именно эта жажда и сила и есть взаимная страсть двух будущих родителей. Она знает бесчисленное множество степеней, две крайности в ряду которых можно все же назвать Aphrodite Pandemos и Ourania13, - по сущности же своей она тем не менее всюду одна и та же. Напротив, по степени своей она будет тем более могучей, чем она индивидуализированнее, т.е. чем более любимый индивид с его особенными свойствами один подходит для удовлетворения желания и потребности любящего, обусловленных собственной его индивидуальностью. От чего же именно это зависит, нам станет ясно в дальнейшем. Прежде всего и существенным образом любовная склонность направлена на здоровье, силу, красоту, а следовательно, также на юность; поскольку воля желает получить прежде всего родовой характер человечества, как основу всякой индивидуальности; обыденный флирт (Aphrodite Pandemos) идет лишь немногим далее. К этому присоединяются затем более частные требования, которые мы подробно будем исследовать ниже, и с которыми, если они предвкушают себе удовлетворение, нарастает и страсть. А высшие степени ее возникают из такого взаимного соответствия двух индивидуальностей, благодаря которому воля, т.е. характер отца, в соединении с интеллектом матери, образуют именно того индивида, по которому воля к жизни вообще, воплощающаяся в целом роде, томится соразмерной своему величию, но именно поэтому превосходящей меру смертного человеческого сердца страстью, мотивы которой так же точно недосягаемы человеческому интеллекту. Таково поэтому существо подлинной, великой страсти. - И чем совершеннее взаимное соответствие двух индивидов, во всех многочисленных отношениях, которые мы должны будем рассмотреть далее, - тем сильнее будет в результате их взаимная страсть. Поскольку же не существует двух совершенно одинаковых индивидов, всякому определенному мужчине будет полнее всего соответствовать, всегда в рассуждении того, что должно быть порождено ими, - одна определенная женщина. И как редок случай их встречи, так же редка и действительно страстная любовь. Поскольку в то же время возможность таковой заложена в каждом из нас, нам понятны изображения ее в творениях поэтов. - Именно потому, что любовная страсть сосредоточена, собственно, на том, что должно быть произведено на свет, и что в этом ее основа, - между двумя молодыми и образованными людьми разного пола может, - вследствие согласия их убеждений, их характеров, их душевного склада, - существовать дружба без малейшей примеси половой любви; в этом последнем отношении между ними возможна даже известная антипатия. Причину этого надо искать в том, что порожденный ими ребенок будет наделен дисгармоничными телесными или душевными качествами, короче говоря, его существование и природа не будут соответствовать целям воли к жизни, как она воплощается в роде. В противоположном случае при разнородности убеждений, характеров и духовного склада и при возникающей оттого взаимной антипатии и даже злобе, может все же возникнуть и сохраниться половая любовь, причем тогда она закрывает глаза на все это: и если она приведет к браку, то он будет очень несчастным.
Все поэтические, все драматические, все художественные произведения - не что иное как изображение половой любви. Удивляться мы должны не тому, что и философ решил избрать своей темой эту постоянную тему всех поэтов, а тому, что предмет, который играет столь значительную роль во всей человеческой жизни, до сих пор почти совсем не подвергался обсуждению со стороны философов и представлял для них неразработанный материал.
Вся влюбленность, какой бы эфирный вид она себе ни придавала, имеет свои корни исключительно в половом инстинкте. Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни? В этих фривольных шашнях любви созидаются будущие поколения. Все любовные истории каждого наличного поколения, взятые в целом, представляют собою, таким образом, серьезную «думу всего человечества о создании будущего поколения». Воля индивидуума выступает в своем повышенном качестве, как воля рода. Эта важность и есть то, на чем зиждется пафос и возвышенный строй любовных отношений, трансцендентный момент восторгов и страданий любви. То, что в индивидуальном сознании сказывается как половой инстинкт вообще, без сосредоточения на определенном индивидууме другого пола, это воля к жизни, просто как таковой. Направленный на определенную личность - воля к тому, чтобы жить в качестве строго определенного индивидуума. Разве точное определение индивидуальностей грядущего поколения не является гораздо более высокою и достойной целью, чем все безмерные чувства и мыльные пузыри. Если истинною целью любви считать это, то окажутся соответствующими делу все околичности любовного романа, все бесконечные усилия и муки, с которыми связано стремление к любимому существу. Сквозь все эти порывы и усилия пробивается в жизнь грядущее поколение во всей своей индивидуальной определенности. Трепет этого поколения слышится уже в том осмотрительном, определенном и прихотливом выборе, взрастающая склонность двух любящих существ - это уже собственно воля к жизни нового индивидуума. И наоборот, решительное и упорное отвращение, которое испытывают друг к другу мужчина и девушка - доказательство того, что дитя, которое они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное, внутренне дисгармоничное, несчастное существо. Как необъяснима в каждом человеке его особая индивидуальность, так же точно необъяснима и индивидуальная страсть двух влюбленных. Оба эти явления в своей глубочайшей основе - одно и то же: первое во внешнем то, чем последнее было внутренним. Самый первый момент зарождения нового индивидуума, истинно критическую точку его жизни, надо видеть в том мгновении, когда его родители начинают друг друга любить. Этот новый индивидуум - новая (Платонова) идея, как все идеи с величайшей напряженностью стремятся принять форму явления, жадно набрасываясь для этого на материю. Эта жадность и это напряжение и есть взаимная страсть будущих родителей. Что касается ее степени - она тем более могущественна, чем более индивидуализирована. Эгоизм так глубоко коренится в свойствах всякой индивидуальности вообще, что когда необходимо пробудить к деятельности - то единственно надежными стимулами для этого являются его эгоистические цели. Природа может достигнуть своей цели, внушив индивидууму иллюзию. Ему кажется личным благом то, что на самом деле составляет благо только для рода. Индивид служит для рода, воображая, что служит самому себе. Эта иллюзия - инстинкт. В подавляющем большинстве случаев - это мысль рода, которая предуказывает воле то, что полезно ему. Так как воля стала здесь индивидуальной, то ее необходимо обмануть, чтобы ей казалось, будто она идет навстречу индивидуальным целям. В целом об инстинктах вообще - инстинкт повсюду выступает как деятельность, будто бы руководимая идеей цели, но в действительности совершенно чуждая последней. Инстинкт существует у человека, который в противном случае хотя и мог бы понимать цель полового общения, но не стремился бы к ней с должным усердием, то есть даже в ущерб своему индивидуальному благополучию. Иллюзия сладострастия внушает мужчине будто он найдет самое большое наслаждение в объятиях женщины, которая пленяет его своей красотой. Именно поэтому человек чувствует себя обманутым, иллюзия исчезает, когда цель достигнута.
Шопенгауэр берется анализировать что и почему мужчин привлекает в женщинах - телосложение, возраст и красота. Женщина ищет в мужчине специфическо мужских качеств, интеллектуальность все равно наследуется от женщины. Брак заключается не ради остроумных собеседований, а для рождения детей. Если женщина утверждает, что она влюбилась в ум мужчины, то это - суетная и смешная выдумка ил же аномалия выродившегося существа. Это абсолютные качества. Относительные - рассчитаны на то, чтобы восстановить существующий уже с изъяном родовой тип. Имеет более определенный, решительный и исключительный характер. Страстная любовь ведет свое начало от этих относительных мотивов, и только обыкновенная легкая склонность вытекает из мотивов абсолютных. Каждый индивидум стремится подавить свои слабости, недостатки и уклонения от нормального человеческого типа в соединении с другою особью для того, чтобы они не повторились в их будущем дитяти.
Любовь маленького мужчины к большим женщинам будет особенно страстна, если он сам родиться от высокого отца и только благодаря влиянию матери остался невысоким: от отца он унаследовал такую систему сосудов и такую ее энергию, которые могли бы снабжать кровью большое тело. Если его отец и дед были также невысокого роста, то эта склонность не будет уже так заметна.
Белокурые волосы и голубые глаза - некоторая игра природы, белый цвет кожи не естествен для людей, а природная кожа - черная или коричневая, как у наших родоначальников - индусов. Каждый белый человек - это человек вылинявший. В половой любви природа стремится обратно к черным волосам и темным глазам. Всякий предпочитает темперамент, противоположный собственному, но лишь в той мере, в какой последний отличается полной определенностью.
Когда молодые люди внимательно рассматривают друг друга - это размышление гения рода о том индивидууме, который может родиться от данной четы. Во всех людях, способных к деторождению, гений рода размышляет о грядущем поколении. Созидание последнего - вот та великая работа, которой неустанно занимается Купидон в своих делах, в своих мечтах и мыслях. Сравнительно с важностью его великого дела, которое касается рода и его грядущих поколений, дела индивидуумов в их эфемерной совокупности очень мелки, поэтому Купидон всегда готов без дальней думы принести эти индивидуумы в жертву. Ибо он относится к ним как бессмертный к смертным.
Интенсивность влюбленности возрастает с ее индивидуализацией, обыкновенное половое влечение пошло, так как чуждо индивидуализации, оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без достаточного внимания к его качеству. Тоска любви, печаль - это вздохи гения рода, который видит, что здесь ему суждено обрести или потерять незаменимое средство для своих целей, и потому он глубоко стонет. Только род имеет бесконечную жизнь, и поэтому только он способен к бесконечным желаниям, к бесконечному удовлетворению и к бесконечным скорбям. В любви все это заключено в тесную грудь смертного существа: что же удивительного, если эта грудь иногда готова разорваться и не может найти выражения для переполняющих ее предчувствий бесконечного блаженства или бесконечной скорби. Утрата любимой женщины составляет для страстно влюбленного такую скорбь, горше которой нет ничего: эта скорбь имеет характер трансцендентный, она поражает человека не как простой индивидуум, а в его вечной сущности, в жизни рода, чью специальную волю и поручение он исполнял своей любовью. Исключительно перед интересами рода отступают честь, долг и верность, которые до сих пор противостояли всяким другим искушениям и даже угрозам смерти. А. Шопенгауэр цитирует Шамфора: «Когда мужчина и женщина питают друг к другу сильную страсть, то мне всегда кажется, что каковы бы ни были разлучающие их препоны (муж, родные и т.д.), влюбленные предназначены друг другу самой природой, имеют друг на друга божественное право, вопреки законам и условностям человеческого общежития». Большая часть «Декамерона» представляет собою не что иное, как издевательство и насмешку гения рода над правами и интересами индивидуумов, над интересами, которые он попирает ногами. С такою же легкостью гений рода устраняет и обращает в ничто все общественные различия и тому подобные отношения. Как пух сдувает он со своего пути все подобные условности и соображения человеческих уставов. В драмах, романах, комедиях - молодые люди борются за свою любовь. Стремления эти представляются нам настолько важнее, возвышеннее и потому справедливее, чем всякое другое ему противодействующее стремление. Обыкновенно гений рода достигает своих целей, и это, как соответствующее художественной справедливости, дает зрителю удовлетворение.
Потому как он чувствует, что цели рода значительно возвышаются над целями индивидуума. В некоторых неестественных комедиях были попытки представить все дело в обратном виде и упрочить счастье индивидов в ущерб целям рода, но тогда зритель чувствует ту скорбь, какую испытывает при этом гений рода.
Что интересно, что введение Шопенгауэром фигуры гения рода, которое поначалу кажется слишком абстрагированным, придание любви трансцендентного измерения, действительно вводит все представления в систему. Там, где он говорит о драме и литературе, это как ключ... Начинаешь постигать суть драмы, начинаешь действительно чувствовать систему там, где речь идет о любви в литературе. И что особенно интересно - совершенно нерациональные впечатления, которые едва ли зачастую возможно описать, также приходят в систему, и оказываются понятными именно что рационально. Как интересно можно было бы иначе этого достигнуть? Вообще введение трансцендентной фигуры гения рода вводит вопрос о любви у Шопенгауэра чуть ли не в романтическую традицию.
Если на высших ступенях влюбленности его мысли получают возвышенную и поэтическую окраску, если они принимают даже трансцендентное и сверхфизическое направление, в силу которого он, по-видимому, совершенно теряет из виду свою настоящую, очень физическую цель, то это объясняется тем, что он вдохновлен теперь гением рода, дела которого бесконечно важнее, чем все касающееся только индивидуумом. Именно смутное сознание того, что здесь совершается событие такой трансцендентной важности, - вот, что поднимает влюбленного столь высоко над всем земным, даже над самим собой.
Это поручение воли, объективирующейся в роде. Воля человека попадает в водоворот воли рода. Удовлетворенная страсть тоже нередко ведет к несчастью. Ее притязания нередко так сильно сталкиваются с личным благополучием влюбленного, что подрывают последнее, так как они несоединимы с прочими сторонами его существования и разрушают построенный на них план его жизни. Вот почему древние и изображали Амура слепым.
На свете был не один Петрарка: их было много - людей, которые неудовлетворенную тоску своей любви должны были в течении всей своей жизни влачить на себе как вериги, как оковы на ногах и в одиночестве лесов изливать свои стоны. Гений рода ведет постоянную борьбу с гениями - хранителями индивидуумов. Род, в котором лежат корни нашего существа, имеет для нас более близкое и раннее право, чем индивидуум. Это чувствовали и древние, и потому они олицетворяли гений рода в Купидоне: несмотря на свой детский облик, это был неприязненный, жестокий и оттого обесславленный бог, капризный, деспотичный демон, но в то же время - владыка богов и людей.
Отпущенный духом рода человек снова впадает в свою первоначальную ограниченность и скудость; и с изумлением видит, что после стольких высоких и героических и беспредельных исканий, он не получил другого наслаждения, кроме того, которое связано с обычным удовлетворением полового инстинкта.
Если доводы рассудка вообще могут иметь какую-нибудь силу в борьбе с нею, то раскрытая мною истина должна больше всего другого способствовать победе над страстью. И особенно еще про разочарование - видимо, он ко всей своей несчастливой жизни, не допускал любви просвещающей, просветляющей, развивающей. Должен же быть какой-то еще гений с другими функциями и интересами.
Браки по любви бывают обыкновенно несчастливы - в них настоящее поколение приносится в жертву для блага поколений грядущих. Браки по расчету - в них забота направлена на благо текущего поколения, хотя и в ущерб грядущему поколению. Мужчина, который при женитьбе руководится деньгами, а не своей склонностью, живет больше в индивидууме, чем в роде. В силу этого дело получает такой вид, как будто при заключении брака надо поступаться либо индивидуумом, либо интересами рода. Если наряду с расчетом принимается в соображение и личная склонность, то это представляет собою как бы сделку с гением рода. Дружба - основанная на солидарности взглядов и мыслей; но она большей частью появляется уже тогда, когда собственно половая любовь уже удовлетворена. Все свойства индивидов, которые дополняют одни другие и между собой гармонируют, как противоположные черты темперамента и особенности интеллекта, также и по отношению к самим индивидам восполняют одни другие и создают гармонию душ.
Значительной школы учеников Шопенгауэр не создал, но к числу его ближайших сподвижников могут быть отнесены Ю. Фрауэнштедт и П. Дейсен. Под его влияние попал философ Ю. Банзен. «Соединить» Гегеля с Шопенгауэром попытался в своем варианте вселенского пессимизма Эдуард Гартман. Те или иные отзвуки шопенгауэровской концепции не трудно обнаружить у американского прагматиста У. Джемса, французского «философа жизни» А Бергсона неогегельянца Б. Кроче, немецкого экзистенциалиста К. Ясперса и австрийского психоаналитика З. Фрейда. Еще ближе, чем Фрейд, подошел к Шопенгауэру другой психоаналитик -- К. Г. Юнг. Но прежде всего конечно, следует вспомнить Фридриха Ницше, который в годы молодости считал Шопенгауэра своим наставником: третии раздел его «Несвоевременных размышлений» (1874) так прямо и называется: «Шопенгауэр-воспитатель».
Вырабатывая собственные методологические установки, Ницше резко усилил свойственные уже самому Шопенгауэру мотивы волюнтаризма и элитарности. А вместо единой Мировой Воли он ввел конгломерат массы противоборствующих друг с другом центров Воли к власти.
Артур Шопенгауэр
М И Р
как
ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
Дальнейшие доказательства основных положений
пессимистической доктрины.
Puncis natus est, qui
populum
aetatis suae cogitat.
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПЕРЕВОДЫ
Н. М. СОКОЛОВА, Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА, М. И. ЛЕВИНОЙ
ГЛАВА XLIV
МЕТАФИЗИКА ПОЛОВОЙ ЛЮБВИ
Ihr Weisen, hoch und tief gelahrt,
Die ihr’s ersinnt und wißt,
Wie, wo und wann sich Alles paart?
Warum sich’s liebt und küßt?
Ihr hohen Weisen, sagt mir’s an!
Ergrübelt, was mir da,
Ergrübelt mir, wo, wie und wann,
Warum mir so geschan?
Вы, мудрецы, вы, мужи высокой и глубокой учености, всеведущие, и всепроникающие, скажите, как это, где это, когда это всё устремляется в пары и почему везде любовь и поцелуи? Высокие мудрецы, скажите мне это! Подумайте, подумайте, что это случилось со мной, как это, где это, когда это и почто это случилось и со мною?
Эта глава последняя
из тех четырёх глав, которые связаны между собою в разных
отношениях и вследствие этого образуют до некоторой степени
целое в целом.
Внимательный читатель увидит это сам, так что мне не придётся
прерывать своё
изложение ссылками и повторениями.
Мы привыкли видеть, что поэты занимаются преимущественно
изображением половой
любви. Она же обыкновенно служит главной темой всех
драматических произведений,
как трагических, так и комических, как романтических, так и
классических, как
индусских, так и европейских; не в меньшей степени является она
сюжетом гораздо
большей половины лирической поэзии, а равно и эпической, в
особенности, если
причислить к последней те великие груды романов, которые вот уже
целые столетия
ежегодно появляются во всех цивилизованных странах Европы с
такою же
регулярностью, как полевые злаки. Все эти произведения в своём
главном
содержании не что иное, как многосторонние, краткие или
пространные описания
половой страсти. И самые удачные из этих изображений, как
например, «Ромео и
Джульетта», «Новая Элоиза»,
«Вертер», достигли бессмертной славы. Если же
Ларошфуко полагает, что со страстной любовью дело обстоит так
же, как с
привидениями, о которых все говорят, но которых никто её видел, и
если
Лихтенберг в своём очерке «О могуществе любви» тоже
оспаривает и отрицает
реальность и естественность этого чувства, то это с их стороны
большое
заблуждение. Ибо невозможно, чтобы нечто природе человеческой
чуждое и ей
противоречащее, т.е. какой-то из воздуха сотканный призрак,
постоянно и
неустанно вдохновляло поэтический гений и в его созданиях
находило себе
неизменный приём и сочувствие со стороны человечества:
Rien nest beau, que le vrai; le vrai seul est aimable
(Нет ничего прекрасного, кроме правды; только истина приятна. Буало (фр.). Шопенгауэр цитирует французского поэта и теоретика классицизма Никола Буало-Депрео (1636-1711), автора стихотворного эстетического трактата "Поэтическое искусство". (См.: N. Boileau-Depreaux. Epitres, IX, 43.))
Опыт, хотя и не повседневный, подтверждает это. В самом деле: то, что обыкновенно имеет характер живой, но всё ещё победимой склонности, при известных условиях может возрасти на степень такой страсти, которая мощью своею превосходит всякую другую, и объятые ею люди отбрасывают прочь всякие соображения, с невероятной силой и упорством одолевают все препоны и для её удовлетворения не задумываются рисковать своею жизнью и даже сознательно отдают эту жизнь, если желанное удовлетворение оказывается для них вовеки недостижимо. Вертеры и Джакопо Ортизи существуют не только в романах; каждый год Европа может насчитать их, по крайней мере, с полдюжины; sed ignotis perierunt mortibus illi (но в безвестности исчезают погибшие (лат.).), ибо страдания их не находят себе другого летописца, кроме чиновника, составляющего протокол, или газетного репортёра. Но читатели судебно-полицейских известий в английских и французских газетах могут засвидетельствовать справедливость моего указания. И ещё больше количество тех, кого эта страсть доводит до сумасшедшего дома. Наконец, всякий год бывает один- два случая совместного самоубийства какой-нибудь любящей, но силою внешних обстоятельств разлучаемой пары; при этом, однако, для меня всегда остаётся непонятным, почему люди, которые уверены во взаимной любви и в наслаждении ею, думают найти себе величайшее блаженство, не предпочитают лучше решиться на самый крайний шаг, пренебречь всеми житейскими отношениями, перенести всякие неудобства, чем вместе с жизнью отказаться от такого счастья, выше которого они ничего не могут себе представить. Что же касается более умеренных степеней любви и обычных порывов её, то всякий ежедневно имеет их перед глазами, а покуда мы не стары, то большей частьюи в сердце своём.
Таким образом, припомнив всё это, мы не будем уже сомневаться ни в реальности, ни в важности любви; и удивляться должны мы не тому, что и философ решился избрать своей темой эту постоянную тему всех поэтов, а тому, что предмет, который играет столь значительную роль во всей человеческой жизни, до сих пор почти совсем не подвергался обсуждению со стороны философов и представляет для них неразработанный материал. Больше всего занимался этим вопросом Платон, особенно в «Пире» и в «Федре»; но то, что он говорит по этому поводу, не выходит из области мифов, легенд и шуток, да и касается главным образом греческой педерастии. То немногое, что есть на нашу тему у Руссо, в его «Discours sur linégalité» («Рассуждения о неравенстве»), неверно и неудовлетворительно. Сказанное Кантом на эту тему в третьем отделе рассуждения «О чувстве прекрасного и возвышенного» (стр. 435 и сл. в издании Розенкранца) очень поверхностно и слабо в фактическом отношении, а потому отчасти и неверно. Наконец, толкование этого сюжета у Платнера, в его «Антропологии», § 1347 и сл., всякий найдёт плоским и мелким. Определение же Спинозы стоит здесь привести ради его чрезвычайной наивности и забавности: «Amor est titillatio, concomitante idea cousae externae» (Eth. IV, prop. 44, dem.) (любовь это щекотание (titillatio), сопровождаемое идеей внешней причины (Этика, часть IV, теорема 44, доказательство) (лат.).). Таким образом, у меня нет предшественников, на которых я мог бы опереться или которых должен был бы опровергать: вопрос о любви возник предо мною естественно, объективно и сам собою вошёл в систему моего мировоззрения.
Впрочем, меньше всего могу я рассчитывать на одобрение со стороны тех, кто сам одержим любовною страстью и кто в избытке чувства хотел бы выразить её в самых высоких и эфирных образах: таким людям моя теория покажется слишком физической, слишком материальной, хотя она, в сущности, метафизична и даже трансцендентна. Но пусть они, прежде всего, подумают о том, что предмет, который сегодня вдохновляет их на мадригалы и сонеты, не удостоился бы с их стороны ни единого взгляда, если бы он родился на восёмнадцать лет раньше.
Ибо всякая влюбленность, какой бы эфирный вид она себе ни придавала, имеет свои корни исключительно в половом инстинкте; да, в сущности, она и не что иное, как точно определённый, специализированный, в строжайшем смысле слова индивидуализированный половой инстинкт. И вот, если, твёрдо помня это, мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь, во всех своих степенях и оттёнках, играет не только в пьесах и романах, но и в действительности, где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной изо всех пружин бытия, где она беспрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьёзные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы, не стесняется непрошеной гостьей проникать её своим хламом в совещания государственных мужей и в исследования учёных, ловко забирается со своими записочками и локонами даже в министерские портфели и философские манускрипты, ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву то жизни и здоровья, то богатства, общественного положения и счастья, отнимает совесть у честного, делает предателем верного и в общем выступает как некий враждебный демон, который старается всё перевернуть, запутать, ниспровергнуть, если мы подумаем об этом, то невольно захочется нам воскликнуть: к чему весь этот шум? к чему вся суета и волнения, все эти страхи и горести? Разве не о том лишь идёт речь, чтобы всякий Ганс нашёл свою Гретхен?* Почему же такой пустяк должен играть столь серьёзную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни? Но перед серьёзным исследователем дух истины мало-помалу раскрывает загадку: совсем не пустяк то, о чём здесь толкуется, а, наоборот, оно так важно, что ему вполне подобают та серьёзность и страстность, которые ему сопутствуют. Конечная цель всех любовных треволнений, разыгрываются ли они на комической сцене или на котурнах трагедии, поистине Важней, чем все другие цели человеческой жизни, и поэтому она вполне достойна той глубокой серьёзности, с какою всякий стремится к её достижению. Именно: то, к чему ведут любовные дела, это ни более, ни менее, как создание следующего поколения . Да, именно здесь, в этих фривольных шашнях любви, определяются в своей жизни и в своём характере те действующие лица, которые выступят на сцену, когда мы сойдём с неё. Подобно тому как существование,existentia, этих грядущих личностей всецело обусловливается нашим половым инстинктом вообще, так их сущность, essentia, зависит от нашего индивидуального выбора при удовлетворении этого инстинкта, т.е. от половой любви, и бесповоротно устанавливается ею во всех своих отношениях. Вот ключ к решению проблемы,но мы лучше ознакомимся с ним, когда, применяя его к делу, проследим все ступени влюбленности, начиная от мимолётного влечения и кончая самой бурной страстью; мы увидим при этом, что всё разнообразие ступеней и оттенков любви зависит от степени индивидуализации выбора.
* Я не смею называть здесь вещи своими именами, пусть же благосклонный читатель сам переведёт эту фразу на аристофановский язык.
Все любовные истории
каждого наличного поколения, взятые в
целом, представляют
собою, таким образом, серьёзную meditatio compositionis generationis futurae, e qua iterum pendent
innumerae
generationes (думу всего человечества о создании будущего поколения,
которое в свою очередь является родоначальником бесчисленных новых
поколений (лат.).). Эта глубокая важность той человеческой
потребности, которая в
отличие от всех остальных людских интересов касается не
индивидуального
благополучия и несчастья отдельных лиц, а жизни и характера всего
человеческого
рода в будущих веках, и в которой поэтому воля индивида выступает
в своём
повышенном качестве, как воля рода,эта важность и есть то,
на чем зиждется
пафос и возвышенный строй любовных отношений,
трансцендентный момент восторгов и
страданий любви, которую поэты в продолжение тысячелетий не
устают изображать в
бесчисленных примерах, ибо нет темы, которая по своему интересу
могла бы
сравниться с этой: трактуя о благополучии и горести рода, она так
же относится к
другим темам, касающимся только блага отдельных личностей, как
геометрическое
телок плоскости. Вот почему так трудно заинтересовать
какой-нибудь пьесой, если
в ней нет любовной интриги; вот почему, с другой стороны, эта тема
никогда не
исчерпывается и не опошляется, хотя из неё и делают повседневное
употребление.
То, что в индивидуальном сознании сказывается как половое
влечение вообще, без
направленности на определённого индивида другого пола, взятое
само по себе и вне
явления, есть воля к жизни. То же, что в сознании проявляется как
половой
инстинкт, направленный на какую-нибудь определённую личность,
есть само по себе
воля к жизни в качестве конкретного индивида. В этом случае
половой инстинкт,
хотя он сам по себе не что иное, как субъективная потребность,
умеет, однако,
очень ловко надевать на себя личину объективного восхищения и
этим обманывает
сознание: природа для своих целей нуждается в подобном
стратегическом приёме. Но
какой бы объективный и возвышенный вид ни принимало это
восхищение, оно в каждом
случае влюбленности имеет своею исключительною целью
рождение известного
индивида с определёнными свойствами: это прежде всего
подтверждается тем, что
существенною стороною в любви является не взаимность, а
обладание, т.е.
физическое наслаждение. Оттого уверенность в ответной любви
нисколько не может
утешить в отсутствии обладания: наоборот, не один человек в таком
положении
кончал самоубийством. С другой стороны, люди, сильно
влюбленные, если они не
могут достигнуть взаимности, довольствуются обладанием, т.е.
физическим
наслаждением. Это доказывают все браки поневоле, а также и те
многочисленные
случаи, когда ценою значительных подарков или другого рода
пожертвований
приобретается благосклонность женщины, вопреки её
нерасположению; это
доказывают, наконец, и факты изнасилования. Истинной, хотя и
бессознательною для
участников целью всякого романа является то, чтобы родилось на
свет именно это,
определённое дитя: как достигается эта цель дело
второстепенное.
Каким бы воплем ни встретили жёсткий реализм моей теории
высокие и
чувствительные, но в то же время влюбленные души, они всё-таки
ошибаются. В
самом деле: разве точное определение индивидуальностей
грядущего поколения не
является гораздо более высокою и достойною целью, чем все их
безмерные чувства и
сверхчувственные мыльные пузыри? Да и может ли быть среди
земных целей более
важная и великая цель? Она одна соответствует той глубине, с
которой мы
чувствуем страстную любовь, той серьёзности, которая
сопровождает её, той
важности, которую она придает даже мелочам в своей сфере и в
своём
возникновении. Лишь в том случае, если истинною целью любви
считать эту цель,
окажутся соответствующими делу все околичности любовного
романа, все бесконечные
усилия и муки, с которыми связано стремление к любимому
существу. Ибо то, что
сквозь эти порывы и усилия пробивается в жизнь,
этогрядущее поколение во всей
своей индивидуальной определённости. И трепет этого поколения
слышится уже в том
осмотрительном, определённом и прихотливом выборе при
удовлетворении полового
инстинкта который называется любовью. Возрастающая склонность
двух любящих
существэто уже собственно воля к жизни нового индивида,
который они могут и
хотят произвести, и когда встречаются их взоры, исполненные
страсти, то это уже
загорается его новая жизнь и возвещает о себе как будущая
гармоническая, стройно
сложенная индивидуальность. Они тоскуют по действительном
соединении и слиянии в
одно существо, для того чтобы затем продолжать свою жизнь только
в нём, и это
стремление осуществляется в дитяти, которое они порождают и в
котором
наследственные черты обоих, соединённые и слитые в одно
существо, переживают
самих родителей. Наоборот, решительное и упорное отвращение,
которое испытывают
друг к другу мужчина и девушка, служит доказательством того, что
дитя, которое
они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное,
внутренне
дисгармоничное, несчастное существо. Вот почему глубокий смысл
заключается в
том, что Кальдерон хотя и называет ужасную Семирамиду дочерью
воздуха, но в то
же время изображает её как дочь насилия, за которым следовало
мужеубийство.
То, что в конечном счёте, с такою силою влечёт два индивида
разного пола к
соединению исключительно друг с другом, это воля к жизни,
проявляющаяся во
всём данном роде; здесь она использует соответствующую её целям
объективацию
себя в том ребёнке, которого могут произвести на свет оба
влюблённых. Особь эта
наследует от отца волю или характер, от матери интеллект, а
телосложение от
обоих. Впрочем, форма тела большею частью складывается по
отцовскому образцу,
размеры же его скореепо материнскому, согласно тому
закону, который
обнаруживается в скрещивании животных и главным образом
зиждется на том, что
величина плода должна приноравливаться к величине матки. Как не
объяснима в
каждом человеке совершенно особая, исключительно ему присущая
индивидуальность,
так же точно не объяснима и совершенно особая и индивидуальная
страсть двух
влюбленных; мало того, оба эти явления в своей глубочайшей
основеодно и то же:
первое во внешнем то, чем последнее было внутренним.
Действительно, самый первый
момент зарождения нового индивида, истинную punctum saliens
(критическую точку)
его жизни, надо видеть в том мгновении, когда его родители
начинают друг друга
любить to fancy each other (увлекаться друг
другом), как очень метко
выражаются англичане. И я уже сказал, что в обмене и встрече их
страстных взоров
возникает первый зародыш нового существа, который, разумеется,
как и все
зародыши, по большей части бывает растоптан. Этот новый
индивиддо известной
степени новая (Платонова) идея; и как все идеи с величайшею
напряжённостью
стремятся принять форму явления, жадно набрасываясь для этого на
ту материю,
которую между ними всеми распределяет закон причины, так и эта
особая идея
человеческой индивидуальности с величайшею жадностью и
напряжением тяготеет к
своей реализации в явлении. Эти жадность и напряжение, желание и
сила, и есть
взаимная страсть будущих родителей. Она имеет бесчисленное
множество степеней,
но крайние точки её во всяком случае можно определить как
Αφροδίτη
πάνδημος и
ουρανια (Афродита всенародная
и небесная (др.-гр.) Противопоставление Афродиты, богини любви и
красоты, "всенародной", т.е. пошлой, низкой, и "небесной",
возвышенной, принадлежит Платону. См. "Пир", VIII, 180 в.); существо
же этой страсти повсюду одинаково. Что же касается степеней
её, то она тем могущественнее, чем она более индивидуализирована,
т.е. чем более
любимый индивид, по всей своей организации и свойствам,
исключительно способен
удовлетворить желание любящего и его потребность, определяемую
собственными
индивидуальными чертами последнего. А в чём собственно. здесь
дело, каковы эти
черты и эта потребность, это мы увидим из дальнейшего изложения.
Прежде и
существеннее всего любовная склонность тяготеет к здоровью, силе
и красоте, а
следовательно и к молодости; ибо воля прежде всего стремится
установить родовой
характер человеческого вида, как основу всякой индивидуальности;
повседневное
волокитство (Αφροδίτη
πάνδημος) дальше
этого не очень-то и заходит. К этому
присоединяются потом
более специальные требования, которые мы ниже рассмотрим
порознь и с которыми
страсть усиливается, если только они видят перед собою
возможность
удовлетворения. Самые же высокие степени страсти вытекают из
такой
приспособленности обоих индивидов друг к другу, в силу которой
воля, т.е.
характер, отца и интеллект матери в своём сочетании образуют
именно ту особь, по
какой воля к жизни вообще, воплощенная в целом роде, чувствует
тоску,
соответствующую её, родовой воли, величию и оттого
превышающую меру
обыкновенного смертного сердца, тоску, мотивы которой тоже
выходят за пределы
индивидуального разумения. В этом следовательно душа
истинной, великой страсти.
Чем совершеннее взаимная приспособленность и соответствие двух
индивидов в тех
разнообразных отношениях, которые мы рассмотрим ниже, тем
сильнее оказывается их
страсть друг к другу. Так как на свете не существует двух
совершенно одинаковых
индивидов, то каждому определённому мужчине должна лучше
всего соответствовать
одна определённая женщина, критерием для нас всё время является
здесь то дитя,
которое они должны произвести. Как редки случаи, чтобы такие два
индивида
встретили друг друга, так редка и настоящая страстная любовь. Но в
виду того,
что возможность такой любви открыта для каждого из нас, всякому
понятны её
описания в поэтических произведениях.
Именно потому, что любовная страсть, собственно,
сосредоточивается вокруг
будущего дитяти и его способностей и здесь лежит её зерно, то
между двумя
молодыми и здоровыми людьми разного пола, благодаря
совпадению в их взглядах,
характере и умственном складе вообще, может существовать
дружба, без всякой
примеси половой любви; более того, в этом последнем отношении
между ними может
царить даже известная антипатия. Причину этого следует искать в
том, что дитя,
которое они могли бы родить, имело бы физически или духовно
дисгармонирующие
свойства, короче говоря, его жизнь и характер не соответствовали бы
целям воли к
жизни, как она воплощается в данном роде. Бывают
противоположные случаи:
несмотря на разность в образе мыслей, характере и умственном
складе вообще,
несмотря на возникающую отсюда антипатию и даже прямую
враждебность, между
индивидами разного пола может зародиться и окрепнуть половая
любовь, и она
ослепляет их по отношению ко всему остальному; и если она
доводит их до брака,
то он весьма несчастлив.
Перейдём теперь к более обстоятельному исследованию нашего
предмета. Эгоизм так
глубоко коренится в свойствах всякой индивидуальности вообще,
что, когда
необходимо пробудить к деятельности какое-нибудь
индивидуальное существо, то
единственно надёжными стимулами для этого являются его
эгоистические цели. И
хотя род имеет на индивид более первоначальное, близкое и
значительное право,
чем сама преходящая индивидуальность, но когда индивиду
предстоит работать для
благополучия и сохранения рода и даже приносить для этого
жертвы, то его
интеллект, рассчитанный на одни только индивидуальные цели, не
может настолько
ясно проникнуться важностью этого дела, чтобы поступать согласно
ей. Вот почему
в подобных случаях природа может достигнуть своей цели только
тем, что внушает
индивиду известную иллюзию, в силу которой ему кажется его
личным благом то, что
на самом деле составляет благо только для рода, и таким образом
индивид служит
последнему, воображая, что служит самому себе: перед ним
проносится чистейшая
химера, которая, побудив его на известный поступок, немедленно
исчезает; и, в
качестве мотива, она заменяет для него действительность. Эта
иллюзия инстинкт.
В подавляющем большинстве случаев на последний надо смотреть
как на мысль рода,
которая предуказывает воле то, что полезно ему. Но так как воля
стала здесь
индивидуальной, то её необходимо обмануть таким образом, чтобы
то, что рисует
перед нею мысль рода, она восприняла мыслью индивида, т.е. чтобы
ей казалось,
будто она идёт навстречу индивидуальным целям, между тем как на
самом деле она
стремится к целям чисто родовым (это слово я беру здесь в самом
подлинном смысле
его). Внешнее проявление инстинкта мы лучше всего наблюдаем на
животных, где его
роль наиболее значительна; но тот внутренний процесс, который
происходит при
этом, мы, как и всё внутреннее, можем изучать только на самих себе.
Правда, иные
думают, что у человека нет почти никаких инстинктов или, в
крайнем случае, тот
один, в силу которого новорожденный ищет и хватает материнскую
грудь. Но в
действительности у нас есть один очень определённый, ясный и
даже сложный
инстинкт, именно, инстинкт столь тонкого, рачительного и
своевольного выбора
другого индивида для удовлетворения половой
потребности.
На удовлетворение этой потребности, поскольку оно представляет
собою чувственное
наслаждение, воплощающее могучее влечение индивида, почти не
влияет красота или
безобразие другого индивида. Если же мы всё-таки обращаем столь
серьёзное
внимание на эстетическую сторону дела и в силу неё так
осмотрительно производим
свой выбор, то это, очевидно, делается не в интересах самого
выбирающего (хотя
он-то лично в этом убеждён), а в интересах истинной цели любви,
т.е. ради
будущего дитяти, в котором тип рода должен сохраниться в
возможной чистоте и
правильности. В силу тысячи стихийных случайностей и
нравственных невзгод
возникают всевозможные уклонения от нормы человеческою облика,
и тем не менее
истинный тип последнего во всех своих частях беспрестанно
возобновляется, этим
мы обязаны чувству красоты, которое всегда предшествует
половому инстинкту и без
которого последний падает на степень отвратительной потребности.
Вот почему
каждый, прежде всего, решительно предпочитает и страстно желает
самых красивых
индивидов, в которых родовой характер запечатлен с наибольшей
чистотой; но затем
он ищет в другом тех совершенств, которых лишён сам, и даже те
несовершенства,
которые противоположны его собственным, находит он
прекрасными; оттого,
например, малорослые мужчины тяготеют к большим женщинам,
блондинки любят
брюнетов и т.д.
То упоительное восхищение, какое объемлет мужчину при виде
женщины
соответствующей ему красоты, суля ему в соединении с нею высшее
счастье, это
именно и есть тот дух рода, который, узнавая на челе этой женщины
явный
отпечаток рода, хотел бы именно с нею продолжать последний. На
этом могучем
тяготении к красоте и зиждется сохранение родового типа, вот
почему и столь
велико это тяготение. Ниже мы специально рассмотрим все те
пункты, которые оно
принимает в расчёт. Таким образом, то, что здесь руководит
человеком, это в
действительности инстинкт, который направлен на благо
рода; между тем как сам
человек воображает, что он находит лишь высшую степень
собственного наслаждения.
На самом же деле перед нами раскрываются здесь поучительные
указания на
внутреннюю сущность всякого инстинкта, который почти всегда, как
и в данном
случае, заставляет особь действовать в интересах рода. Ибо
очевидно, что та
заботливость, с которой насекомое разыскивает определённый
цветок, или плод, или
навоз, или мясо, или, как ихневмоны, личинку чужого насекомого,
для того, чтобы
именно туда и только туда положить свои яйца, для достижения этой
цели не щадя
трудов и пренебрегая опасностями, эта заботливость очень
похожа на ту, с какою
мужчина для удовлетворения своей половой потребности тщательно
выбирает женщину
определённого склада, который бы удовлетворял его
индивидуальному вкусу, и столь
пылко желает её, что нередко для достижения этой цели он,
наперекор всякому
разуму, приносит в жертву счастье всей своей жизни: он вступает в
нелепый брак
или в такую любовную связь, которая отнимает у него состояние,
честь и жизнь,
или решается даже на преступление, например, на прелюбодеяние
или изнасилование,
и всё это только для того, чтобы, покоряясь всевластной воле
природы, наиболее
целесообразным образом послужить роду, хотя бы и за счёт
индивида. Повсюду,
значит, инстинкт выступает как деятельность, будто бы руководимая
идеей цели, но
в действительности совершенно чуждая последней. Природа
насаждает его там, где
действующий индивид или неспособен был бы понять цель своих
действий, или не
согласился бы стремиться к ней; вот почему инстинкт обыкновенно
и присущ только
животным, и к тому же преимущественно низшим, которые меньше
всего одарены умом.
И почти исключительно в рассматриваемом случае инстинкт
существует и у человека,
который в противном случае хотя и мог бы понимать цель полового
общения, но не
стремился бы к ней с должным усердием, т.е. даже в ущерб своему
индивидуальному
благополучию. Таким образом, и здесь, как и во всяком инстинкте,
истина, для
того чтобы воздействовать на волю, принимает облик иллюзии. И
вот иллюзия
сладострастия внушает мужчине, будто в объятиях женщины,
которая пленяет его
своей красотою, он найдёт большее наслаждение, чем в объятиях
всякой другой; та
же иллюзия, сосредоточенная исключительно на одной-
единственной женщине,
непоколебимо убеждает его, что обладание ею доставит ему
необыкновенное счастье.
И вот ему кажется, будто усилия и жертвы расточает он ради
собственного
наслаждения, между тем как на самом деле всё это он производит
для сохранения
нормального типа рода или же для того, чтобы получила бытие
совершенно
определённая индивидуальность, которая может произойти только
от данных
родителей. Насколько полно сохраняется здесь характер инстинкта,
т.е. действия,
как будто руководимого идеей цели, а на самом деле совершенно
чуждого ей, видно
из того, что объятый любовным наваждением человек нередко даже
пренебрегает тою
самою целью, которая только и направляет его, т.е. деторождением,
и старается
помешать ей: так бывает почти при всякой внебрачной любви.
Указанному мною
существу половых отношений вполне соответствует и то, что всякий
влюбленный,
достигнув наконец желанного блаженства, испытывает какое-то
странное
разочарование и поражается тем, что осуществление его заветной и
страстной мечты
совсем не дало ему большей радости, чем дало бы всякое другое
удовлетворение
полового инстинкта. И это не служит к его вящему поощрению. Его
страстное
желание, теперь удовлетворенное, так относилось ко всем
остальным его желаниям,
как род относится к индивиду, т.е. как бесконечное к чему-то
конечному. Самое же
удовлетворение идёт собственно во благо только роду и оттого не
проникает в
сознание индивида, который здесь, одушевляемый волей рода,
самоотверженно служил
такой цели, какая его лично вовсе и не касалась. Вот почему,
следовательно,
всякий влюбленный, осуществив своё великое дело, чувствует себя
обманутым,
исчезла та иллюзия, благодаря которой индивид послужил здесь
обманутой жертвой
рода. Оттого Платон очень хорошо и замечает: voluptas omnium
maxime vaniloqua (Phileb. 45) (нет вещи более обманчивой, чем
сладострастие. (Филеб, 45 и 65 с) (лат.). В последнем переводе
Платона на рус. яз. это утверждение отсутствует.
(См.: Платон
. Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 57-58.)).
А всё это, с своей стороны, бросает свет на инстинкты и творческие
влечения
животных. Без сомнения, и животные находятся во власти
некоторого рода иллюзии,
обманчиво сулящей им личное наслаждение, когда они так
ревностно и
самоотверженно трудятся в интересах своего рода: когда птица,
например, вьёт
себе гнездо, когда насекомое ищет для своих яиц единственно
годного места или
даже выходит на поиски за добычей, которой оно не воспользуется,
но которую надо
положить рядом с яйцами как пищу для будущих личинок; когда
пчела, оса, муравей
воздвигают свои искусные постройки и ведут своё крайне сложное
хозяйство.
Бесспорно, все они подчиняются какой-то иллюзии, которая
облекает служение роду
личной эгоистической цели. К тому, чтобы ясно понять тот
внутренний, или
субъективный, процесс, который лежит в основе проявлений
инстинкта, это
предположение иллюзии составляет, вероятно, единственный
способ. С внешней же,
или объективной, точки зрения дело представляется так: те
животные, которые в
сильной степени покоряются инстинкту, именно насекомые,
обнаруживают
преобладание ганглиенозной, т.е. субъективной, нервной системы
над системой
спинно-мозговой, или объективной, откуда следует заключить, что
эти животные
влекомы в своих действиях не столько объективным, правильным
восприятием
предметов, сколько субъективными представлениями, которые
возбуждают желания и
которые возникают, благодаря воздействию ганглионозной системы
на мозг;
следовательно, этими животными руководит известная иллюзия
это физиологическая
сторона инстинкта. Для пояснения сказанного я напомню ещё о
другом, хотя и более
слабом примере инстинкта в человеке, о капризном аппетите
беременных:
по-видимому, он является в силу того, что питание эмбриона иногда
требует особой
или определённой модификации притекающей к нему крови и
вследствие этого пища,
которая могла бы произвести такую модификацию, сейчас же
представляется
беременной женщине предметом страстного желания: значит, и
здесь возникает
некоторая иллюзия. Таким образом, у женщины одним инстинктом
больше, нежели у
мужчины; в связи с этим ганглионозная система у неё гораздо более
развита, чем у
мужчины. Значительное преобладание головного мозга в человеке
служит причиной
того, что люди имеют меньше инстинктов, чем животные, и что даже
эти немногие
инстинкты легко подвергаются у них извращению. Например,
чувство красоты,
инстинктивно руководящее человеком при выборе объекта полового
удовлетворения,
извращается, вырождаясь в наклонность к педерастии; аналогию
этому представляет
то, что мясная муха (musca vomitoria), вместо того чтобы, согласно
своему
инстинкту, класть свои яйца в гниющее мясо, кладет их в цветок
полынного
арунника (arum dracunculus), привлекаемая трупным запахом этого
растения.
То, что в основе всякой половой любви лежит инстинкт,
направленный исключительно
на будущего ребёнка, это станет для нас вполне
несомненным, если подвергнуть
его, названный инстинкт, более точному анализу, который поэтому
неминуемо и
предстоит нам.
Прежде всего надо заметить, что мужчина по своей природе
обнаруживает склонность
к непостоянству в любви, а женщина к постоянству. Любовь
мужчины заметно
слабеет с того момента, когда она получит себе удовлетворение:
почти всякая
другая женщина для него более привлекательна, чем та, которою он
уже обладает, и
он жаждет перемены; любовь женщины, наоборот, именно с этого
момента возрастает.
Эторезультат целей, которые ставит себе природа: она
заинтересована в
сохранении, а потому и в возможно большем размножении всякого
данного рода
существ. В самом деле: мужчина легко может произвести на свет
больше ста детей в
год, если к его услугам будет столько же женщин; напротив того,
женщина, сколько
бы мужчин она ни знала, всё-таки может произвести на свет только
одно дитя в год
(я не говорю здесь о двойнях). Вот почему он всегда засматривается
на других
женщин, она же сильно привязывается к одному, ибо природа
инстинктивно и без
всякой рефлексии побуждает её заботиться о кормильце и защитнике
будущего
потомства. И оттого супружеская верность имеет у мужчины
характер искусственный,
а у женщиныестественный, и таким образом, прелюбодеяние
женщины как в
объективном отношении, по своим последствиям, так и в
субъективном отношении, по
своей противоестественности, гораздо непростительнее, чем
прелюбодеяние мужчины.
Но чтобы не быть голословным и вполне убедиться в том, что
удовольствие, которое
нам доставляет другой пол, как бы объективно оно ни казалось, на
самом деле не
что иное, как замаскированный инстинкт, т.е. дух рода,
стремящегося к сохранению
своего типа, для этого мы должны точно исследовать даже те
мотивы, которые
руководят нами при выборе объектов этого удовольствия, и войти
здесь в некоторые
специальные подробности, как ни странно может показаться, что
такие детали
находят себе место в философском произведении. Эти мотивы
распадаются на
следующие категории: одни из них относятся к типу рода, т.е. к
красоте, другие
имеют своим предметом психические свойства, наконец, третьи
носят чисто
относительный характер и возникают из необходимости взаимных
коррективов или
нейтрализации односторонностей и аномалий обоих любящих
индивидов. Рассмотрим
все эти категории порознь.
Главное условие, определяющее наш выбор и нашу склонность, это
возраст. В
общем он удовлетворяет нас в этом отношении от того периода,
когда начинаются
менструации, и до того, когда они прекращаются; но особенное
предпочтение отдаём
мы поре от восёмнадцати до двадцати восьми лет. За этими
пределами ни одна
женщина не может быть для нас привлекательной: старая женщина,
т.е. уже не
имеющая менструаций, вызывает у нас отвращение. Молодость без
красоты всё ещё
привлекательна, красота без молодости никогда. Очевидно,
соображение, которое
здесь бессознательно руководит нами, это возможность
деторождения вообще;
оттого всякий индивид теряет свою привлекательность для другого
пола в той мере,
в какой он удаляется от периода наибольшей пригодности для
производительной
функции или для зачатия. Второе условие, это здоровье:
острые болезни являются
в наших глазах только временной помехой} болезни же хронические
или худосочие
совершенно отталкивают нас, потому что они переходят на ребенка.
Третье условие,
с которым мы сообразуемся при выборе женщины, это её
телосложение, потому что
на нём зиждется тип рода. После старости и болезни ничто так не
отталкивает нас,
как искривленная фигура: даже самое красивое лицо не может нас
вознаградить за
неё; напротив, мы безусловно предпочитаем самое безобразное лицо,
если с ним
соединяется стройная фигура. Далее, всякая непропорциональность
в телосложении
действует на нас заметнее и сильнее всего, например, кривобокая,
скрюченная,
коротконогая фигура и т. п., даже хромающая походка, если она не
является
результатом какой-нибудь внешней случайности. Наоборот,
поразительно красивый
стан может возместить всякие изъяны: он очаровывает нас. Сюда же
относится и то,
что все высоко ценят маленькие ноги: последние
существенный признак рода, и ни
у одного животного tarsus и metatarsus (скакательный
сустав в задней конечности животных), взятые вместе, не так малы,
как у
человека, что находится в связи с его прямою походкой:
человексущество
прямостоящее. Поэтому у Иисуса, сына Сирахова, и сказано (26:23,
по
исправленному переводу Крауза): «женщина, которая стройна
и у которой красивые
ноги, подобна золотой колонне на серебряной опоре». Важны
для нас и зубы, потому
что они играют очень существенную роль в питании и особенно
передаются по
наследству. Четвёртое условие это достаточная полнота тела,
т.е. преобладание
растительной функции, пластичности: оно обещает плоду обильное
питание, и оттого
сильная худоба сразу отталкивает нас. Полная женская грудь имеет
для мужчины
необыкновенную привлекательность, потому что, находясь в прямой
связи с
детородными функциями женщины, она сулит новорожденному
обильное питание. С
другой стороны, чрезмерно полные женщины противны нам; так как
это свойство
указывает на атрофию матки (uterus), т.е. на бесплодие; и знает об
этом не
голова, а инстинкт. Только последнюю роль в нашем выборе играет
красота лица. И
здесь прежде всего принимаются в соображение костные части: вот
почему главное
внимание мы обращаем на красивый нос; короткий вздёрнутый нос
портит всё.
Счастье целой жизни для множества девушек решил маленький
изгиб носа кверху или
книзу; и это справедливо, потому что дело здесь идёт о родовом
типе. Маленький
рот, обусловленный маленькими челюстями, играет очень важную
роль, потому что он
составляет специфический признак человеческого лица в
противоположность пасти
животных. Отставленный (уходящий) назад, как бы отрезанный
подбородок в
особенности противен, потому что mentum prominulum (выдающийся вперед подбородок (лат.)) есть
характерный признак
исключительно человеческого вида. Наконец, внимание наше
привлекают красивые
глаза и лоб: они связаны уже с психическими свойствами, в
особенности
интеллектуальными, унаследованными от матери.
Те бессознательные побуждения, которым, с другой стороны,
следуют в своём выборе
женщины, естественно, не могут быть нам известны с такою же
точностью. В общем
можно утверждать следующее. Женщины предпочитают возраст от
30 до 35 лет и
отдают ему преимущество даже перед юношеским возрастом, когда
на самом деле
человеческая красота достигает высшего расцвета. Объясняется это
тем, что
женщинами руководит не вкус, а инстинкт, который в мужественном
возрасте
угадывает кульминационный пункт производительной силы.
Вообще, они мало обращают
внимания на красоту, т.е., собственно, на красоту лица: точно они
берут всецело
на себя дать её ребенку. Главным образом побеждает их сила и
связанная с нею
отвага мужчины, потому что это обещает им рождение здоровых
детей и в то же
время мужественного защитника последних. Каждый физический
недостаток мужчины,
каждое уклонение от типа женщина может в родившемся дитяти
парализовать, если
она сама в тех же отношениях безукоризненна или представляет
уклонение в
противоположную сторону. Отсюда необходимо исключить только
те свойства мужчины,
которые специально присущи его полу и которых поэтому мать не
может передать
своему ребенку: сюда относятся мужское строение скелета, широкие
плечи, узкие
бёдра, прямые ноги, мускульная сила, мужество, борода и т. п. Вот
почему женщины
часто любят безобразных мужчин; но никогда не полюбит женщина
мужчину
немужественного, потому что она не могла бы нейтрализовать его
недостатков.
Вторая категория мотивов, лежащих в основе половой любви,
это та, которая
относится к психическим свойствам. В этой области мы видим, что
женщину всегда
привлекают в мужчине достоинства его сердца, или характера,
которые составляют
отцовское наследие. В особенности пленяют женщину сила воли,
решительность и
мужество, а также, пожалуй, благородство и доброе сердце.
Напротив,
интеллектуальные преимущества не имеют над нею инстинктивной
и непосредственной
власти именно потому, что эти свойства наследуются не от отца.
Ограниченность не
вредит успеху у женщин; здесь, скорее наоборот, мешают
выдающиеся умственные
способности и даже гениальность, как отклонения от нормы. Вот
почему некрасивый,
глупый и грубый мужчина нередко затмевает в глазах женщины
человека
образованного, даровитого и достойного. Да и браки по любви
иногда заключаются
между людьми, которые в духовном отношении совершенно
разнородны: например, он
груб, крепок и ограничен, она
нежна, чутка, с изящной
мыслью, образованная,
восприимчива к прекрасному и т.д., или же он
гениален и
учён, она
дурочка:
-
Sic visum Veneri; cui placet impares
Formas atque animos, sub juga aлnea
Saevo mittere cum joco.
(Так, видно, нравится самой Венере; зло шутя, она соединяет тех, кто так несхож ни внешне, ни душою (Гораций) (лат.). Или «Так нравится Венере; любит она ради жестокой забавы склонять под железное ярмо разные лица и души».)
(Любил ли тот, кто сразу не влюбился? Шекспир. Как вам это понравится, акт III, сц. 5 (англ.).)
Замечательно в этом отношении одно место из знаменитого, вот уже двести пятьдесят лет, романа «Гузман де Альфараш» Маттео Алемана: «No es necessario, para que uno ame, que pase distancia de tiempo, que siga discurso, ni haga eleccion, sino que con aquella primera у sola vista, concurraa juntamente cierta correspondencia ó consonancia, ó lo que асá solemos vulgarmente decir, una confrontation de sangre , à que рог particular influxo suelen mover las estrellas». (Для того чтобы полюбить, не нужно много времени, не нужно размышлять и делать выбор: необходимо только, чтобы при первом и едином взгляде возникло некоторое взаимное соответствие и сочувствие, то, что в обыденной жизни мы называем обыкновенно симпатией крови и для чего надобно особое влияние созвездий.) P. II, L. III, cap. 5. Вот почему и утрата любимой женщины, похищенной соперником или смертью, составляет для страстно влюбленного такую скорбь, горше которой нет ничего: эта скорбь имеет характер трансцендентный, потому что она поражает человека не как простой индивид, а в его вечной сущности, в жизни рода, чью специальную волю и поручение он исполнял своей любовью. Оттого-то ревность столь мучительна и яростна, и отречься от любимой женщины это значит принести величайшую из жертв. Герой стыдится всяких жалоб, но только не жалоб любви; ибо в них вопит не он, а род. В «Великой Зиновии» Кальдерона Децием говорит:
-
Cielos, luego tu me quieres?
Perdiera cien mil victorias,
Volviérame, etc.
(О небо! Значит, ты любишь меня?! За это я отдал бы сто тысяч побед, отступил бы с поля брани и т.д. (исп.).)
Таким образом, честь, которая до сих пор преобладала над всеми
интересами,
сейчас же уступает поле битвы, как только в дело вмешивается
половая любовь,
т.е. интересы рода; на стороне любви оказываются решительные
преимущества,
потому что интересы рода бесконечно сильнее, чем самые важные
интересы,
касающиеся только индивидов. Исключительно перед интересами
рода отступают
честь, долг и верность, которые до сих пор противостояли всяким
другим
искушениям и даже угрозам смерти. Обращаясь к частной жизни, мы
тоже видим, что
ни в одном пункте совестливость не встречается так редко, как
именно здесь: даже
люди вполне правдивые и честные иногда поступаются своею
честностью и не
задумываясь изменяют супружескому долгу, когда ими овладевает
страстная любовь,
т.е. интересы рода. И кажется даже, что в этом случае они находят
для себя
оправдание более высокое, нежели то, какое могли бы представить
какие бы то ни
было интересы индивидов, именно потому, что они поступают в
интересах рода.
Замечательно в этом смысле изречение Шамфора: «Quand un homme et une
femme ontl"un pour 1"autre une passion violente, il me semble toujours
que, quelque soient les obstacles qui les separent, un mari, des
parens ets., les deux amans sont 1"un a 1"autre, de par la Nature,
qu"ils s"appartiennent de droit divin, malgre les lois et les
conventions humaines» (Когда мужчина и женщина питают друг к
другу сильную страсть, то мне всегда кажется, что каковы бы ни были
препоны, их разлучающие, муж, родные и т.д., влюбленные
предназначены друг для друга самой природой
, имеют друг на друга
божественное право
, вопреки законам и условностям человеческого
общежития (фр.). Шопенгауэр цитирует "Максимы" французского моралиста
Себастьяна Шамфора (1741-1794). Chamfort. Maximes, chap. VI, p. 74.)
Кто вздумал бы
возмущаться этим, пусть
вспомнит то поразительное снисхождение, с каким Спаситель
отнесся в Евангелии к
грешнице; ведь Он такую же точно вину предполагал и во всех
присутствовавших (Евангелие от Луки, 7, 36-50.). С
этой точки зрения, большая часть «Декамерона»
представляет собою не что иное,
как издевательство и насмешку гения рода над правами и
интересами индивидов, над
интересами, которые он попирает ногами. С такою же лёгкостью
гений рода
устраняет и обращает в ничто все общественные различия и тому
подобные
отношения, если они противодействуют соединению двух страстно
влюбленных
существ: в стремлении к своим целям, направленным на
бесконечные ряды грядущих
поколений, как пух, сдувает он со своего пути все подобные
условности и
соображения человеческих уставов. В силу тех же глубоких
оснований, там, где
дело идёт о цели, к которой стремится любовная страсть, человек
охотно идёт на
всякую опасность, и даже робкий становится тогда отважным. Точно
так же и в
драмах и романах мы с участием и отрадой видим, как молодые
герои борются за
свою любовь, т.е. за интересы рода, как они в этой борьбе
одерживают победу над
стариками, которые думают только о благе индивидов. Ибо
стремления влюбленных
представляются нам настолько важнее, возвышеннее и потому
справедливее, чем
всякое другое стремление, ему противодействующее, насколько род
значительнее
индивида. Вот почему основной темой почти всех комедий служит
появление гения
рода с его целями, которые противоречат личным интересам
изображаемых индивидов
и потому грозят разрушить их счастье. Обыкновенно гений рода
достигает своих
целей, и это, как соответствующее художественной справедливости,
даёт зрителю
удовлетворение: ведь последний чувствует, что цели рода
значительно возвышаются
над целями индивида. И оттого в последнем действии зритель
вполне спокойно
покидает увенчанных победой любовников, так как и он разделяет с
ними ту
иллюзию, будто они воздвигли этим фундамент собственного
счастья, между тем как
на самом деле они пожертвовали им для блага рода, вопреки
желанию
предусмотрительных стариков. В некоторых неестественных
комедиях были попытки
представить всё дело в обратном виде и упрочить счастье индивидов
в ущерб целям
рода: но тогда зритель чувствует ту скорбь, какую испытывает при
этом гений
рода, и не утешают его приобретённые такою ценою блага
индивидов. Как примеры
этой категории, можно назвать две очень известные маленькие
пьесы: «La reine de 16 ans» («16-летняя
королева») и «Le mariage de raison» («Брак по расчёту»). В большинстве
трагедий с любовной интригой, когда
цели рода не осуществляются, влюбленные, которые служили его
орудием, тоже
погибают, например, в «Ромео и Джульетте»,
«Танкреде», «Дон Карлосе», в
«Валленштейне», «Мессинской невесте» и
т.д.
Влюбленность человека часто приводит к комическим, а иногда и
трагическим
ситуациям, и то, и другое потому, что, одержимый духом рода, он
всецело
подпадает его власти и не принадлежит больше самому себе: вот
отчего его
поступки и не соответствуют тогда существу индивидуальному.
Если на высших
ступенях влюбленности его мысли получают возвышенную и
поэтическую окраску, если
они принимают даже трансцендентное и выходящее за пределы
физического мира
(сверхфизическое) направление, в силу которого он, по-видимому,
совершенно
теряет из виду свою настоящую, очень физическую цель, то это
объясняется тем,
что он вдохновлён теперь гением рода, дела которого бесконечно
важнее, чем всё
касающееся только индивидов, вдохновлен для того, чтобы во
исполнение его
специального поручения заложить основание всей жизни для
неопределённо долгого
ряда грядущих поколений, отличающихся именно заданными,
индивидуально и строго
определёнными, свойствами, которые они, эти поколения, могут
получить только от
него, как отца, и от его возлюбленной, как матери, причём самые эти
поколения,
как такие, иначе, т.е. помимо него, никогда не могли бы достигнуть
бытия, между
тем как объективация воли к жизни этого бытия решительно
требует. Именно смутное
сознание того, что здесь совершается событие такой
трансцендентной важности,
вот что поднимает влюбленного столь высоко над всем земным,
даже над самим
собою, и даёт его весьма физическим желаниям такую
сверхфизическую оболочку, что
любовь является поэтическим эпизодом даже в жизни самого
прозаического человека
(в последнем случае дело принимает иногда комический вид). Это
поручение воли,
объективирующейся в роде, представляется сознанию влюбленного
под личиной
антиципации бесконечного блаженства, которое он будто бы может
найти в
соединении именно с данной женщиной. На высших ступенях
влюбленности эта химера
облекается в такое сияние, что в тех случаях, когда она не может
осуществиться,
жизнь теряет для человека всякую прелесть и обращается в нечто
столь
безрадостное, пустое и противное, что отвращение к ней
перевешивает даже страх
смерти и люди в этом положении часто добровольно обрывают свою
жизнь. Воля
такого человека попадает в водоворот воли рода; иначе говоря,
последняя
настолько берёт перевес над индивидуальной волей, что если та не
может
действенно проявиться в своём первом качестве, как воля рода, то
она
презрительно отвергает и действенность в качестве последнем, как
воли
индивидуальной. Индивид является здесь слишком слабым сосудом
для того, чтобы он
мог вместить в себе беспредельную тоску воли рода, тоску, которая
сосредоточивается на каком-нибудь определённом объекте. Вот
почему в этих
случаях исходом бывает самоубийство, иногда двойное
самоубийство влюбленных;
помешать ему может только природа, когда она для спасения жизни
насылает
безумие, которое своим покровом облекает для человека сознание
этого
безнадёжного положения. Года не проходит, чтобы несколько
подобных случаев не
подтверждали всей реальности того, о чём я говорю.
Но не только неудовлетворенная любовь имеет порою трагический
исход: нет, и
удовлетворенная тоже чаще ведёт к несчастью, чем к счастью. Ибо
её притязания
нередко так сильно сталкиваются с личным благополучием
влюбленного, что
подрывают последнее, так как они несоединимы с прочими
сторонами его
существования и разрушают построенный на них план его жизни. Да
и не только с
внешними обстоятельствами любовь часто вступает в противоречие,
но даже и с
собственной индивидуальностью человека, ибо страсть устремляется
на тех,
которые, помимо половых отношений, способны возбуждать у
влюблённого одно только
презрение, ненависть и даже прямое отвращение. Но воля рода
настолько
могущественнее воли индивида, что влюблённый закрывает глаза на
все эти
непривлекательные для него свойства, ничего не видит, ничего не
сознаёт и
навсегда соединяется с предметом своей страсти; так ослепляет его
эта иллюзия,
которая, лишь только воля рода получит себе удовлетворение,
исчезает и взамен
себя оставляет ненавистную спутницу жизни. Только этим и
объясняется, что очень
умные и даже выдающиеся мужчины часто соединяются с какими-то
чудовищами и
дьяволами в образе супруг, и мы тогда удивляемся, как это они
могли сделать
подобный выбор. Вот почему древние и изображали Амура слепым.
Влюбленный может
даже ясно видеть и с горечью сознавать невыносимые недостатки в
темпераменте и
характере своей невесты, сулящие ему несчастную жизнь, и тем не
менее это не
пугает его:
-
I ask you, I care not,
If guilts in thy heart;
I know that I love thee,
Whatever thou art.
(Не тужу я, не спрошу я,
В чём твоя вина.
Знаю только, что люблю я,
Кто б ты ни была.(англ.).)
(Шопенгауэр цитирует английского поэта-романтика Томаса Мура (1779-1852), автора поэтического сборника "Ирландские мелодии". Thomas Moore. Irish melodies. Song "Come rest in this bossom".)
(Я люблю и ненавижу её.
(Шекспир. Цимбелин. Акт 3, сцена 5.)
(англ.))
Возжигающаяся тогда ненависть к любимой женщине заходит порою столь далеко, что влюбленный убивает её, а затем и себя. Несколько таких случаев обычно происходит каждый год: прочтите в газетах. Совершенно верны поэтому следующие стихи Гёте:
-
Постылые исчадья преисподней!
Мне жаль, что нет ругательств попригодней!
(См.: Гёте. Фауст. М., 1953. С. 159; перев. Б. Пастернака.)
Это в самом деле не гипербола, когда влюбленный называет жестокостью холодность возлюбленной и тщеславное удовольствие, которое она испытывает, глядя на его страдания. Ибо он находится во власти такого побуждения, которое, будучи родственно инстинкту насекомых, заставляет его, вопреки всем доводам рассудка, неуклонно стремиться к своей цели и ради неё пренебрегать всем другим: иначе он делать не может. Петрарка был не одинок в своём несчастье на свете: их было много людей, которые неудовлетворенную тоску своей любви должны были в течение всей своей жизни влачить на себе как вериги, как оковы на ногах и в одиночестве лесов изливать свои стоны; но только одному Петрарке был в то же время присущ и поэтический гений, так что к нему относится прекрасный стих Гёте:
-
Und wenn der Mensch in seiner Quaal verstummt,
Gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich liede.
(И пусть человек онемел в своих муках,
Во мне есть Божий дар сказать, как я страдаю (нем.).)
В действительности гений рода ведёт постоянную борьбу с ангелами-хранителями индивидов; он их гонитель и враг, он всегда готов беспощадно разбить личное счастье, для того чтобы достигнуть своих целей, и даже благо целых народов иногда приносилось в жертву его капризам: пример этого даёт нам Шекспир в «Генрихе VI» (часть 3, действие 3, сцены 2 и 3). Всё это объясняется тем, что род, в котором лежат корни нашего существа, имеет на нас более близкое и раннее право, чем индивид; вот почему интересы рода преобладают в нашей жизни. Это чувствовали древние, и потому они олицетворяли гений рода в Купидоне: несмотря на свой детский облик, это был неприязненный, жестокий и оттого обесславленный бог, капризный, деспотический демон, но в то же время владыка богов и людей:
-
συ δψω θεων
τύραννε
κψανθρωπων
Έρως!
(Tu, deorum hominumique tyranne, Amor!)
(Ты, Амур, тиран богов и людей! (греч., лат.). Еврипид)
Смертоубийственный лук, слепота и крылья вот его
атрибуты. Последние указывают
на его непостоянство, связанное с разочарованием, которое следует
за
удовлетворением.
Поскольку страсть опирается на иллюзию, которая представляет для
индивида как
нечто ценное то, что ценно только для рода, то по удовлетворении
цели рода эти
чары должны исчезнуть. Дух рода, овладевший (подчинивший себе)
было индивидом,
теперь снова отпускает его на волю. И отпущенный им, индивид
снова впадает в
свою первоначальную ограниченность и скудость; и с изумлением
видит он, что
после столь высоких, героических и беспредельных исканий он не
получил другого
наслаждения, кроме того, которое связано с обычным
удовлетворением полового
инстинкта; против ожидания он не чувствует себя счастливее, чем
прежде. Он
замечает, что его обманула воля рода. Вот почему осчастливленный
Тезей покидает
свою Ариадну. Если бы страсть Петрарки обрела себе
удовлетворение, то с этого
момента смолкли бы его песни, как замолкает птица, когда она
положит свои яйца.
Замечу кстати, что хотя моя метафизика любви должна особенно не
понравиться
именно тому, кто опутан сетями этой страсти, тем не менее, если
доводы рассудка
вообще могут иметь какую-нибудь силу в борьбе с нею, то
раскрытая мною истина
должна больше всего другого способствовать победе над страстью.
Но, конечно,
всегда останется в силе изречение древнего комика: «бессилен
разум над тем, что
само по себе лишено всякой разумности и меры» [Публий
Теренций Афер].
Браки по любви заключаются в интересах рода, а не индивидов.
Правда, влюбленные
мнят, что они идут навстречу собственному счастью: но
действительная цель их
любви чужда им самим, потому что она заключается в рождении
индивида, который
может произойти только от них. Соединенные этой целью, они
вынуждены
впоследствии уживаться друг с другом как знают; но очень нередко
чета,
соединенная этой иллюзией инстинкта, которая составляет сущность
страстной
любви, во всех других отношениях представляет нечто весьма
разнородное. Это
обнаруживается тогда, когда иллюзия в силу необходимости
исчезает.
Вот почему браки по любви и бывают обыкновенно несчастливы: в
них настоящее
поколение приносится в жертву для блага поколений грядущих.
«Quien se casa por
amores, ha de vivir con dolores» (Кто женится по любви, тот будет жить в печали
(исп.).) говорит испанская
пословица. Обратно дело
обстоит с браками по расчёту, которые большею частью
заключаются по выбору
родителей. Соображения, господствующие здесь, какого бы рода они
ни были, по
меньшей мере реальны, и сами по себе они не могут исчезнуть. В
них забота
направлена на благо текущего поколения, хотя, правда, и в ущерб
поколению
грядущему, причём это благо текущего поколения остаётся всё-таки
проблематично.
Мужчина, который при женитьбе руководится деньгами, а не своею
склонностью,
живёт больше в индивиде, чем в роде, а это прямо противоречит
истинной сущности
мира, является чем-то противоестественным и возбуждает известное
презрение.
Девушка, которая вопреки совету своих родителей отвергает
предложение богатого и
нестарого человека, для того чтобы, отбросив всякие условные
соображения,
сделать выбор исключительно по инстинктивному влечению,
приносит в жертву своё
индивидуальное благо благу рода. Но именно потому ей нельзя
отказать в известном
одобрении, так как она предпочла более важное и поступила в духе
природы (точнее
рода), между тем как совет родителей был проникнут духом
индивидуального
эгоизма.
В результате создаётся впечатление, будто при заключении брака
надо поступаться
(жертвовать) либо интересами индивида, либо интересами рода. И
действительно, в
большинстве случаев так и бывает: ведь это очень редкий и
счастливый случай,
чтобы соображения расчёта и страстная любовь шли рука об руку.
Если большинство
людей в физическом, моральном или интеллектуальном отношении
столь жалки, то
отчасти это, вероятно, объясняется тем, что браки обыкновенно
заключаются не по
прямому выбору и склонности, а в силу разного рода внешних
соображений и под
влиянием случайных обстоятельств. Если наряду с расчётом в
известном смысле
принимается в соображение и личная склонность, то это
представляет собою как бы
сделку с гением рода. Как известно, счастливые браки редки: такова
уже самая
сущность брака, что главною целью его служит не настоящее, а
грядущее поколение.
Но в утешение нежных и любящих душ прибавлю, что иногда к
страстной половой
любви присоединяется чувство совершенно другого происхождения
именно настоящая
дружба, основанная на солидарности взглядов и мыслей; впрочем,
она большей
частью является лишь тогда, когда собственно половая любовь,
удовлетворенная,
погасает. Такая дружба в большинстве случаев возникает оттого, что
те
физические, моральные и интеллектуальные свойства обоих
индивидов, которые
дополняют одни другие и между собою гармонируют и из которых в
интересах
будущего дитяти зародилась половая любовь, эти самые свойства,
как
противоположные черты темперамента и особенности интеллекта, и
по отношению к
самим индивидам восполняют одни другие и этим создают
гармонию душ.
Вся изложенная здесь метафизика любви находится в тесной связи с
моей
метафизикой вообще, и освещение, которое она даёт последней,
можно резюмировать
в следующих словах.
Мы пришли к выводу, что тщательный и через
бесконечные
ступени до страстной любви восходящий выбор при удовлетворении
полового
инстинкта основывается на том в высшей степени серьёзном
участии, какое человек
принимает в специфически личных свойствах грядущего поколения.
Это необыкновенно
примечательное участие подтверждает две истины, изложенные
мною в предыдущих
главах: 1) То, что неразрушима внутренняя сущность человека,
которая продолжает
жить в грядущем поколении. Ибо это столь живое и ревностное
участие, которое
возникает не путём размышления и преднамеренности, а вытекает из
самых
сокровенных побуждений нашего существа, не могло бы отличаться
таким
неискоренимым характером и такой великой властью над человеком,
если бы он был
существо абсолютно преходящее и если бы поколение, от него
реально и безусловно
отличное, приходило ему на смену только во времени. 2) То, что
внутреннее
существо человека лежит больше в роде, чем в индивиде. Ибо тот
интерес к
специфическим особенностям рода, который составляет корень
всяческих любовных
отношений, начиная с мимолётной склонности и кончая самой
серьёзной страстью,
этот интерес, собственно говоря, представляет для каждого самое
важное дело в
жизни: удача в нём или неудача затрагивает человека наиболее
чувствительным
образом; вот почему такие дела по преимуществу и называются
сердечными делами. И
если этот интерес приобретает решительное и сильное значение, то
перед ним
отступает всякий другой интерес, направленный только на
собственную личность
индивида, и в случае нужды приносится ему в жертву. Этим,
следовательно, человек
подтверждает, что род лежит к нему ближе, чем индивид, и что он
непосредственнее
живёт в первом, нежели в последнем.
Итак, почему же влюбленный так беззаветно смотрит и не
насмотрится на свою
избранницу и готов для неё на всякую жертву? Потому что к ней
тяготеет
бессмертная часть его существа: всего же иного желает только его
смертное
начало. Таким образом, то живое или даже пламенное вожделение, с
каким мужчина
смотрит на какую-нибудь определённую женщину, представляет
собой
непосредственный залог неразрушимости ядра нашего существа и
его бессмертия в
роде. И считать такое бессмертие за нечто малое и
недостаточноеэто ошибка;
объясняется она тем, что под грядущей жизнью в роде мы не
мыслим ничего иного,
кроме грядущего бытия подобных нам, но ни в каком отношении не
тождественных с
нами существ; а такой взгляд в свою очередь объясняется тем, что
исходя из
познания, направленного вовне, мы представляем себе только
внешний облик рода,
как мы его воспринимаем наглядно, а не внутреннюю сущность его.
Между тем именно
эта внутренняя сущность и есть то, что лежит в основе нашего
сознания, как его
зерно, что поэтому непосредственнее даже, чем самое сознание, и
что как вещь в
себе, свободная от principio individuationis представляет собою
единое и
тождественное начало во всех индивидах, существуют ли они
одновременно или
проходят друг за другом. Эта внутренняя сущность воля к
жизни, т.е. именно то,
что столь настоятельно требует жизни и жизни в будущем, то, что
недоступно для
беспощадной смерти. Но и с другой стороны, эта внутренняя
сущность, эта воля к
жизни, не может обрести себе лучшего состояния, нежели то, каким
является её
настоящее; а поэтому вместе с жизнью для неё неизбежны
беспрерывные страдания и
смерть индивидов. Освобождать дать её от страданий предоставлено
отрицанию воли
к жизни, посредством которого индивидуальная воля отрешается от
ствола рода и
прекращает в нём своё собственное бытие. Для определения того,
чем становится
воля к жизни тогда, у нас нет никаких понятий и даже никакого
материала для них.
Мы можем охарактеризовать это лишь как нечто такое, что имеет
свободу быть волей
к жизни или не быть. Для последнего случая у буддизма есть слово
нирвана,
этимологию которого я дал в примечании к концу XLI-й главы. Это
предел,
который навсегда останется недоступным для всякого человеческого
познания, как
такого.
Когда с этой последней точки зрения мы оглянёмся на сутолоку
жизни, мы увидим,
что всё несёт в ней тягостные труды и заботы и напрягает последние
силы для
того, чтобы удовлетворить бесконечные потребности и отразить
многообразные
страдания, и притом безо всякой, даже робкой надежды получить за
всё это
что-нибудь другое, кроме сохранения, на скудную долю времени,
именно этого
мучительного индивидуального существования. Между тем среди
этого шумного
смятения жизни мы замечаем страстные взоры двух влюбленных, но
почему же эти
взоры так пугливы, тайны и украдчивы? Потому, что эти
влюбленныеизменники, и
тайно помышляют они о том, чтобы продолжить и повторить все
муки и терзания
бытия, которые иначе нашли бы себе скорый конец; но не допускают
этого конца
влюбленные, как раньше не допускали его подобные им. Впрочем,
эта мысль
относится уже к содержанию следующей главы.
Приложение к предыдущей главе
-
Ούτως
ανοαδως
εξεκινησας
το ρήμα και
που
τούτο φευξεσ&αι δοκενς Πεφευγα ταληΦες γαρ ισχυρον τρέφω.
Так бесстыдно изрёк ты это слово. Как же ты думаешь избежать наказания? Я избежал его потому, что крепко держусь истины.
(Софокл. Царь Эдип) (греч.).
Ранее я упомянал о педерастии и определил ее как
вступивший на ложный путь инстинкт. Когда я работал над вторым
изданием книги, это казалось мне достаточным. С тех пор
дальнейшее размышление над этим открыло мне в ней
удивительную проблему, а также ее решение. Это решение
предполагает предыдущую главу, но вместе с тем проливает и новый
свет на нее и таким образом служит дополнением и доказательством
изложенного в ней воззрения.
Педерастия, рассмотренная сама по себе, предстает не только как
просто противоестественное, но и как в высшей степени противное,
вызывающее отвращение чудовищное извращение, действие, на
которое однажды оказалась способна совершенно искаженная,
испорченная и выродившаяся натура и которое повторялось затем
лишь в самых редких случаях. Если же мы обратимся к опыту, то
обнаружим обратное; мы увидим, что этот порок, несмотря на его
отвратительность, встречается во все времена и во всех странах
достаточно часто. Общеизвестно, что у греков и римлян он был
широко распространен, что в нем открыто признавались и
предавались ему, не боясь и не стыдясь. Об этом более чем
достаточно свидетельств у античных авторов. В первую очередь
этим полны произведения поэтов, не исключая даже произведений
целомудренного Вергилия (Eel. 2). Такое извращение приписывают
даже самым древним поэтам: Орфею (которого за это разорвали
менады) и Фамирису, даже самим богам. Философы также говорят
гораздо больше о нем, чем о любви к женщинам; Платон, по-
видимому, вообще не знает иной любви, также и стоики,
упоминающие о ней как о достойной мудреца (Stob. eel. eth. L. II, с.
7) 120 . Даже Сократа Платон прославляет в "Пире" за
беспримерный подвиг, который заключался в том, что он отверг
предложение такого рода, сделанное ему
Алкивиадом 121 . В "Меморабилиях" Ксенофонта Сократ
говорит о педерастии как о невинной и даже похвальной вещи (Stob.,
Flor., I, 57). Там же, в "Меморабилиях", где Сократ предостерегает от
опасностей любви, он говорит лишь о любви к мальчикам, так что
можно подумать, будто в Греции совсем не было женщин (L. I, cap.
3, § 8). Аристотель (Pol. II, 9) говорит о педерастии как о чем-
то вполне обычном, не порицая ее, и указывает на то, что у кельтов
она пользовалась общественным признанием, а у жителей Крита
даже поощрялась законами как средство против перенаселения; он
рассказывает (с. 10) о любви к юношам законодателя Филолая и т.п.
Цицерон даже утверждает: Apud Graecos opprobrio fuit adolescentibus,
si amatores non haberent* 22 . Для образованных читателей
здесь вообще не нужны доказательства, они могут припомнить сотни
их, ибо античные произведения полны ими. Но и у народов менее
цивилизованных, в частности у галлов, этот порок был очень
распространен. Если мы обратимся к Азии, то увидим, что ему
предавались во всех странах этой части света, начиная с древнейших
времен до наших дней, причем его даже не особенно скрывали; он
распространен как среди индийцев и китайцев, так и среди
исламских народов, поэты которых также гораздо больше говорят о
любви к мальчикам, чем к женщинам; так, например, в Гулистане
Саади книга "О любви" полна высказываний только о ней. Известен
был этот порок и иудеям, ибо в Ветхом и Новом завете упоминают о
каре за него. В христианской Европе религия, законодательство и
общественное мнение упорно боролись с ним: в средние века он
повсюду карался смертной казнью, во Франции в XVI в. виновные
сжигались на костре, а в Англии еще в первой трети этого века они
без всякого снисхождения предавались смерти; в настоящее время
смертная казнь заменена пожизненной ссылкой. Настолько
решительные меры потребовались, следовательно, чтобы остановить
распространение этого порока; в известной степени это удалось, но
отнюдь не полностью; он крадется под покровом глубочайшей
тайны всегда и повсюду, во всех странах и во всех сословиях и
внезапно обнаруживается там, где его меньше всего ждали. Так же
обстояло дело, несмотря на грозящую казнь, и в давние века: об этом
свидетельствуют упоминания и намеки в произведениях тех времен.
Принимая во внимание и взвесив все это, мы видим, что педерастия
играет во все времена и во всех странах совсем не ту роль, какую мы
приписывали ей раньше, когда рассматривали ее только как саму по
себе, следовательно, a priori. Распространенность и неискоренимость
этого порока доказывает, что он каким-то образом проистекает из
человеческой природы, ибо лишь в этом случае он может всегда и
повсюду постоянно выступать, как бы подтверждая правило:
-
Naturam expelles furca, tamen usque recurret
(Вилой природу гони, она все равно возвратится (лат.).
(Гораций. Послания, 1,10, 24; перев.
Н. Гинцбурга. М., 1968. С. 341.)).
Поэтому мы не можем отказаться от этого вывода, если хотим
быть добросовестны. Конечно, пренебречь всем этим и ограничиться
бранью и руганью по этому поводу легко, однако это не
соответствует моему способу решения проблем; следуя и здесь
моему врожденному призванию всегда смотреть в корень вещей, я
прежде всего стремлюсь познать обнаруженный требующий
объяснения феномен со всеми вытекающими из него последствиями.
Однако чтобы нечто столь противоестественное в своей основе,
противодействующее природе в достижении ее самой важной и
серьезной цели проистекало из самой природы, такой
неслыханный парадокс, что решение его представляет собой
трудную задачу, которую я, однако, теперь предполагаю решить,
открыв лежащую в ее основе тайну природы.
Исходным пунктом послужит для меня одно место у Аристотеля
(«Политика», VII,
16). Там он доказывает, во-первых, что. слишком молодые люди
производят на свет
дурных, слабых, болезненных и тщедушных детей и что, во-вторых,
то же самое надо
сказать и о потомстве людей слишком старых: «ибо у людей
как слишком молодых,
так и слишком старых дети рождаются с большими изъянами в
телесном и умственном
отношениях. А потомство людей, удрученных старостью,
слабосильно и убого». То,
что Аристотель выводит как правило для отдельных личностей, это
самое Стобей, в
конце своего изложения перипатетической философии,
устанавливает как закон для
общества (Stob. Ecl.eth. Стобей. «Этические
отрывки», кн. II, гл. 7, в конце):
«ради телесной силы и совершенства надлежит, чтобы по
закону не вступали в брак
ни слишком молодые, ни слишком старые люди, ибо и тот и другой
возраст порождает
детей слабых и несовершенных». Поэтому Аристотель и
советует, чтобы человек,
достигший 54 лет, больше не производил детей, хотя для своего
здоровья или ради
какой-нибудь другой причины он может всё-таки иметь половые
сношения. Как именно
осуществить это, Аристотель не говорит; но, очевидно, мнение его
склоняется к
тому, что детей, рожденных в таком возрасте, надо устранять путём
искусственного
выкидыша: несколькими строками выше он его рекомендует.
Природа, с своей
стороны, не может отрицать того факта, на котором основывается
совет Аристотеля;
но она не может и отказаться от него. Ибо, согласно своему
основному закону:
natura non facit saltus (природа не делает скачков (лат.)) , она не может сразу прекратить у мужчины
выделение
семени: нет, здесь, как и при всяком умирании, ослабление функции
должно
совершаться постепенно. Но в этом периоде акт деторождения
может давать миру
только слабых, тупых, хилых, жалких и недолговечных людей. Так
это часто и
бывает: дети, рожденные от старых родителей, по большей части
рано умирают и во
всяком случае никогда не достигают старости. Все они в большей
или меньшей
степени тщедушны, болезненны, слабы; их собственные дети
отличаются такими же
свойствами. Сказанное о деторождении в преклонном возрасте
относится и к
деторождению в возрасте незрелом. Между тем природа ничего так
близко не
принимает к сердцу, как сохранение вида и его настоящего типа, и
средствами к
этой цели служат для неё здоровые, бодрые, сильные индивиды:
лишь таких хочет
она. Мало того: как я уже показал в XLI-й главе, она в сущности
рассматривает
индивиды только как средство, так она с ними и обращается; целью
же её служит
только вид.
Таким образом, природа, в силу своих собственных законов и целей,
попала здесь в
очень затруднительное положение. На какой-нибудь
насильственный и от чужого
произвола зависящий исход, вроде указываемого Аристотелем, она
по самой сущности
своей не могла рассчитывать, как не могла рассчитывать и на то,
чтобы люди,
наученные опытом, поняли вред слишком раннего и слишком
позднего деторождения и,
руководимые доводами холодного рассудка, обуздали поэтому свои
вожделения. Ни на
том, ни на другом исходе природа в таком серьёзном деле,
следовательно, не могла
остановиться. И вот ей не оставалось ничего другого, как из двух зол
выбрать
меньшее. А с этой целью она должна была и здесь заинтересовать в
своей заботе
своё излюбленное орудиеинстинкт, который, как я показал в
предыдущей главе,
руководит столь важным делом деторождения и создаёт при этом
столь странные
иллюзии; осуществить же это природа могла только так, что повела
его по ложному
пути, извратила его (lui donna le change). Ведь природа знает только
физическое,
а не моральное: между нею и моралью существует даже прямой
антагонизм. Сохранить
индивид, особенно же вид, как можно более совершенным
вот её единственная
цель. Правда, и в физическом отношении педерастия вредна для
предающихся ей
юношей, но не в такой сильной степени, чтобы это не было из двух
зол меньшим,
которое она, природа, и избирает для того, чтобы заранее
предотвратить гораздо
большее зло, вырождение вида, и таким образом отразить
хроническое и
возрастающее несчастье.
В силу этой предусмотрительности природы, приблизительно в том
возрасте, о
котором говорит Аристотель, мужчина обыкновенно начинает
испытывать легкое и всё
возрастающее влечение к педерастии, и оно мало-помалу становится
всё явственнее
и сильнее в той мере, в какой уменьшается его способность
производить здоровых и
сильных детей. Так устроила это природа; впрочем, надо заметить,
что от
зарождения этой склонности до самого порока расстояние ещё очень
велико. Правда,
если ей не ставится никакой препоны, как это было в Древней
Греции и Риме или во
все времена в Азии, то, поощряемая примером, она легко может
довести до порока,
который тогда и получает широкое распространение; что же касается
Европы, то
этой склонности противодействуют в ней столь могучие требования
религии, морали,
законов и чести, что почти всякий содрогается при одной мысли о
ней, и можно
поэтому сказать, что на триста человек, испытывающих подобное
влечение, найдётся
разве лишь один, настолько слабый и бессмысленный человек,
который бы поддался
ему; это тем более верно, что педерастическая склонность возникает
лишь в
старости, когда кровь охлаждена и половой инстинкт вообще
ослаблен и когда, с
другой стороны, это ненормальное влечение находит себе в
созревшем разуме, в
укреплённой опытом рассудительности и в многократно испытанной
твёрдости духа
таких сильных противников, что только вконец испорченная натура
может не устоять
перед ним.
Цели, которую имеет при этом в виду природа, она достигает тем,
что
педерастическая склонность влечёт за собою равнодушие к
женщинам, которое всё
более и более усиливается и доходит до полного нерасположения и
даже отвращения
к ним. И тем вернее достигает здесь природа своей истинной цели,
что, по мере
ослабления в мужчине производительной силы, всё решительнее
становится её
противоестественное направление. Вот почему педерастия является
пороком
исключительно старых мужчин. Только их от времени до времени
уличают в нём, к
общественному скандалу. Людям настоящего мужественного
возраста педерастическая
склонность чужда и даже непонятна. Если же иногда и бывают
исключения из этого
правила, то я думаю, что они объясняются только случайным и
преждевременным
вырождением производительной силы, которая могла бы создать
лишь дурное
потомство, и вот природа для того, чтобы предотвратить последнее,
отклоняет эту
силу в другое русло. И потому педерасты, в больших городах, к
сожалению, не
редкие, всегда обращаются со своими намеками и предложениями к
пожилым господам
и никогда не пристают они к людям зрелого возраста и тем менее
юношам. Даже и
у греков, среди которых пример и привычка, вероятно, не раз
создавали исключения
из этого правила, даже у них писатели, в особенности философы,
именно Платон и
Аристотель, обыкновенно изображают любовника человеком
безусловно пожилым.
Особенно замечательно в этом отношении одно место у Плутарха, в
«Книге
любовников», гл. 5: «любовь к мальчикам, которая
появляется в жизни поздно и не
вовремя, как бы украдкой и незаконно, изгоняет естественную и
старшую любовь».
Мы видим, что даже и среди богов имеют любовников-мужчин
только старые из них
Зевс и Геркулес, а не Марс, Аполлон, Вакх, Меркурий. Впрочем, на
востоке, где
вследствие полигамии возникает недостаток в женщинах, от времени
до времени
появляются вынужденные исключения из этого правила; так это
бывает и в новых ещё
и потому бедных женщинами колониях, какова Калифорния и т.д.
Далее, в виду того,
что незрелое семя, как и семя, выродившееся от старости, может
давать лишь
слабое, дурное и несчастное потомство, эротическое влечение
подобного рода часто
возникает не только в старости, но и в молодости, среди юношей; но
только в
высшей степени редко ведёт оно к действительному пороку, потому
что, кроме
названных выше мотивов, ему противодействуют невинность,
чистота, совестливость
и стыдливость юношеского возраста.
Из сказанного выясняется, что хотя рассматриваемый порок, по-
видимому,
решительно противоборствует целям природы, и притом самым
важным и дорогим для
неё целям, тем не менее в действительности он должен служить
именно последним,
хотя лишь косвенным образом, в качестве предохранительного
средства против
большого зла. Он представляет собою феномен умирающей, а также
и незрелой ещё
производительной силы, которая грозит опасностью виду; и хотя по
моральным
основаниям этой силе лучше бы и на той, и на другой стадии совсем
иссякнуть, на
это, однако, здесь нельзя было рассчитывать, так как природа
вообще в своей
деятельности не принимает в соображение чисто моральных начал.
Вот почему,
собственными же законами притиснутая к стене, природа путём
извращения инстинкта
прибегла к некоторому крайнему средству, к некоторой стратагеме;
она создала
себе искусственную лазейку, для того чтобы, как я сказал выше, из
двух зол
избегнуть большего. Она имеет в виду важную цель
предотвратить неудачное
потомство, которое могло бы постепенно довести до вырождения
целый вид; и, как
мы видели, для достижения этой цели она не брезглива в выборе
средств. Она
действует здесь в том же духе, в котором, как это я показал выше, в
главе
XXVII-й, она заставляет ос убивать своих детёнышей: в обоих
случаях она
прибегает ко злу, для того чтобы избегнуть злейшего; она извращает
половой
инстинкт, для того чтобы предотвратить наиболее гибельные
последствия его.
Моею целью было прежде всего решение указанной выше
проблемы, а также
подтверждение изложенной в предыдущей главе теории, согласно
которой половой
любовью управляет инстинкт, создающий иллюзии, поскольку
природе интересы рода
важнее всех остальных, и что это остаётся в силе даже и здесь, в
описанном
противоестественном извращении и вырождении полового влечения,
потому что и
здесь последним основанием оказываются цели рода, хотя и чисто
отрицательные ар
своему характеру, как профилактическое мероприятие природы.
Высказанные мною
соображения проливают, таким образом, свет и на всю мою
метафизику половой
любви. Вообще же своими замечаниями я выявил одну доселе
сокрытую истину,
которая при всей своей необычности проливает новый свет на
внутреннюю сущность,
дух и творчество природы. При этом имеется в виду не моральное
осуждение порока,
а лишь понимание сущности дела. Впрочем, истинное, последнее,
глубоко
метафизическое основание гнусности (порочности) педерастии
заключается в том,
что пока воля к жизни утверждается в ней, результат этого
утверждения,
открывающий путь к искуплению и возобновлению жизни,
совершенно парализуется.
Наконец, изложением этих парадоксальных мыслей я хотел оказать
небольшую услугу
профессорам философии, весьма озадаченным всё большим
распространением моей
философии, о которой они постоянно умалчивали: я предоставляю
им возможность
клеветать, будто я защищаю педерастию и призываю к ней.